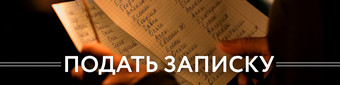

Святитель Нектарий [1], известный прежде всего святостью своей жизни и чудотворениями, был также замечательным консервативным богословом [2]. После цитирования святого, периодически мы будем приводить стандартные модернистские аргументы и обвинения в сторону тех, кто старается придерживаться подлинного православного вероучения. Эти критические высказывания всегда будут отмечаться особо, чтобы прояснить, что это лишь сторонняя критика вероучения нашей Церкви [3].
Не секрет, что на протяжении всей церковной истории появлялось немало христиан, которые пытались выставлять подлинную апостольскую и отеческую веру как искажение христианства. Так, в XX веке (и несколько ранее) эту отеческую веру нередко стали клеймить схоластической [4] и пролатинской [5] [6], особенно в академической среде.
Как замечают опытные апологеты, для отвержения догматов нашей веры либеральными богословами изыскиваются различные способы [7]. Например, можно применять «особый» способ [8] прочтения отцов, соборных определений и, конечно же, Писания, настаивая на правильности и духовной проницательности этих новых прочтений [9]. Также можно отвергать или принижать вероучительный авторитет имеющегося «согласия Отцов», соборных определений, канонов, анафем...
Конечно, ошибаться могут все, в том числе и святые [10]. Но если изначальная богословская методология [11] основана на произвольном толковании Писания, на «вчитывание» в тексты Отцов новых сомнительных философских и богословских идей, на ограничении соборного голоса Церкви (например, одним первым тысячелетием), то такой подход неизменно (!) будет приводить к опасным и прямо еретическим заблуждениям – к искажению Предания Церкви со всеми вытекающими последствиями.
В то, в чём заключаются православные фундаментализм [12] и радикализм, мы углубляться не будем, поскольку для каждого отдельного критика Предания и Церкви они могут иметь свой особый набор тяжких прегрешений, исходя из их собственных религиозных и иных предпочтений.
Поэтому в ряде статей, посвященных святому Нектарию, мы в основном сосредоточимся на вере самого святителя, которую иногда будем «критиковать» с позиций условных либеральных богословов, чтобы лучше выявить противоречие между верой святых и новых богословов. Иногда эта критика может выглядеть довольно карикатурно. Тем не менее она должна передавать суть этой модернистской и экуменической аргументации, которую нередко можно встретить в трудах и высказываниях церковных авторов последних веков [13] и особенно современных [14] [15].
Вероучительные положения святитель Нектарий обычно излагает возвышенным богословским языком, что видимо свойственно греческим богословам (потомкам эллинских философов и риторов), как и многим другим святым разных веков. Поэтому определить святого Нектария как «сухого» схоласта [16] (чтобы под этим не подразумевалось [17]) едва ли возможно. Приводимые нами цитаты и отрывки из трудов святителя, как минимум в главных своих положениях – это соборно зафиксированные догматы или богословские истины, согласные с мнением подавляющего большинства святых разных времен и мест, то есть подлинное православное вероучение [18].
О Церкви Христовой
«Церковь Христова – это Церковь Нового Завета, Церковь Благодати Христовой. Она включает в себя всех, кто верит в Него православно» [19].
«Будучи Царем, Иисус царствует в сердцах верующих, соединенных с Ним посредством Святой Его Церкви. Тот, кто не является членом Церкви, находится вне Царства Христова и лишен чести быть Его сыном» (там же).
Критика [20]: «Разве можем мы решать за Бога, кто из христиан принадлежит к Церкви, а кто нет? Тем более как можно дерзать лишать кого-то Царства Небесного только потому, что он не верит так же как вы? Зачем Вы отправляете в геенну миллионы китайцев? В Писании сказано: «Не судите, да не судимы будете» (Мф 7:1). Фарисеи тоже были уверены, что они праведнее и мудрее всех, так что делайте выводы... Вы устанавливаете для Бога искусственные рамки, мыслите сугубо юридически и схоластически [21], подобно католикам, а Писание и отцов следует читать духовно, а не рационалистически, чтобы верно постигнуть смысл написанного»».
Оставим в стороне эту «уничтожительную» критику [22] и обратимся к учению самого святого Нектария, согласно которому, чтобы быть членом Церкви Нового Завета, нужно верить во Христа православно, то есть именно так, как учит Церковь на своих Соборах и через своих святых. Церковь Христова строго и неповреждённо хранит своё вероучение – Предание Церкви, и чтобы избегнуть «гнева и суда» Божиего, каждый верный также обязан бережно хранить веру Церкви в своём сердце и разуме:
«Говоря о миссии Христовой Церкви, святой Феофил, епископ Антиохийский (II век), сравнивает Церковь в 14-м параграфе своей второй книги с «морскими островами»: «Некоторые из них обитаемы, на них есть вода, плоды, рейды и гавани, чтобы дать убежище тем, кому грозят морские штормы. Точно также Бог дал миру, бушующему и раздираемому грехами, храмы, именуемые святыми церквами, в которых, как в надежных островных гаванях, хранится вероучение Церкви. К ним прибегают те, кто хочет спастись; они становятся возлюбленными Истины и таким образом избегают гнева и суда Божиего.
Другие острова скалисты, не имеют ни воды, ни плодов, они дикие и необитаемые. Они представляют опасность для путешествующих и для потерпевших крушение. Об них разбиваются корабли и гибнут пассажиры. Таковы порочные вероучения, которые я называю ересями. Не направляемые Словом Истины, они вводят в заблуждение тех, кто примыкает к ним. Они похожи на пиратов, которые, загрузив свои корабли и блуждая по волнам, разобьют корабли об эти острова и навсегда потеряют их. Так же обстоит дело и с теми, кто удаляется от истины и гибнет в заблуждениях» [23].
Святитель Нектарий, рассуждая о Церкви, ссылается на святителя Феофила Антиохийского ((†183/5), который учит, что так называемые церкви, которые не хранят вероучение Церкви – суть бесплодны и опасны: «Об них разбиваются корабли и гибнут пассажиры». Истинное вероучение хранится в Православной Церкви как в самой надежной гавани: «…к ним прибегают те, кто хочет спастись; они становятся возлюбленными Истины и таким образом избегают гнева и суда Божиего».Важнейшим аспектом экклесиологии является учение о Священном Апостольском Предании и его раскрытии в Церкви:
«Священное Предание присуще Церкви, без Священного Предания Церкви не существует. Те, кто отрицает Священное Предание, отрицает Церковь и апостольскую проповедь. До написания и распространения по миру Священного Писания, – то есть, Евангелий, Деяний и Посланий апостольских, – Церковь основывалась на Священном Предании…, так что Священное Писание относится к Священному Преданию как часть к целому [24]. Отцы Церкви относились к Священному Преданию как к надежному ориентиру в толковании Священного Писания и совершенно необходимому для понимания истин, содержащихся в Писании… Поэтому Седьмой Вселенский Собор говорит в восьмом правиле: «Если кто нарушает что-либо из церковного Предания, письменного или устного, да будет анафема» [25]». [26]
Крайне опасно произвольно толковать Священное Писание без твердой опоры на Предание Церкви [27]. Этому догматически учит Иерусалимский Собор 1672 года, на который часто ссылается святитель Нектарий в вопросах вероучения: «Мы веруем, что Божественные и Священные Писания преподаны Богом; и поэтому мы должны верить им без малейшего сомнения; но не иначе, чем Кафолическая Церковь изъяснила и передала их» [28]. Итак, Предание «совершенно необходимомо для понимания истин, содержащихся в Писании». Что же бывает, если толковать Писание без учета истин, открытых в Предании и впоследствии разъясненных Святым Духом на святых Соборах? У новых толкователей часто получаются совсем другие догматы и иное христианское нравоучение, а в итоге и другая церковь.
Святой Нектарий учит, что в Церкви изначально Господом было установлено именно 7 Таинств:
«Что же сказать нам о совершаемых в ней божественных Таинствах, от веков в Церкви совершаемых? Что сказать нам о Крещении, таинственном очищении человека от своих же и от праотеческих грехов и примиряющего его с Богом? Таинственно прививающего от дикой маслины к доброй маслине? Что же – о Таинстве Помазания, сей печати Христовой, при котором передается Церковью совершительное Помазание, благовонное, творящее его совершенным? Что же – о Eвхаристии, духовной сей пище верного, животворящей душу и ведущей человека к непосредственному общению со Христом? Что же – о Священстве, высоком сем божественном чине и служении, Таинстве этом, при котором человек, взятый из человеков, за человеков становится пред Богом? <…> Святой Дионисий Ареопагит называет священство священным служением, образом надмирной иерархии и царством священным и святым, которое совершается на земле, чин же имеет из небесных полков. <…> Что же – о Таинстве Елеепомазания, которым сама Церковь молитвами исцеляет болящего душой и телом человека, поднимает с одра болезни его и показывает его здравым по тому и другому? Но и о Таинстве священного Брака, в котором Церковь возобновляет данное в раю благословение человеческому роду? Церковь, имеющая такие божественные Таинства, через которые многовидно и многообразно таинственно действует благодать и передает небесные её дарования в ней рожденным, есть поистине божественное учреждение, и возвещает, и вопиет, и свидетельствует через них о божественном ее происхождении, и выражает божественный характер своего Основателя» [29].
Критика: «Церковь никогда не учила о 7 Таинствах. Точное количество Таинств Отцами Церкви строго не определялось. Всё схоластически регламентировать и догматизировать свойственно юридически мыслящим католикам, отнюдь не православным. И только когда наша Церковь всё больше начала подвергаться сильнейшему латинскому влиянию [30], если не сказать больше – пленению западными неправославными идеями в богословии [31] и не только в нём, – тогда в наших официальных Катехизисах и учебниках по догматике появились чуждые святоотеческой мысли пролатинские учения [32]».
Святитель вслед за Церковью Христовой [33] утверждает, что все 7 Таинств имеют божественное происхождение [34], а значит – в той или иной форме исходят из Священного Писания или Апостольского Предания, то есть изначально даны Церкви Христом.
Также можно отметить, что, цитируя труд святого Дионисия Ареопагита, святитель Нектарий отнюдь не именует автора «псевдо-Дионисием», как это твердо принято в современном научном сообществе, которое поставило крест на возможности принадлежности Ареопагитского корпуса самому апостолу от семидесяти – священномученику Дионисию [35].
Критика: «Все люди грешны, немощны и склонны к заблуждениям. Поэтому даже если соберется самый что ни на есть вселеннейший из Соборов, составленный из всех Патриархов и тысяч епископов всей Церкви, то и от этого мало что измениться, – он не будет застрахован от ошибок. В этом Вы подобны католикам, которые утверждают, что Папа Римский способен безошибочно возвещать истину для всей Церкви, когда торжественно учительствует «ex cathedra» (с кафедры). Только вместо папизма Вы обожествляете свои Соборы, которые якобы также всегда принимали безошибочные решения о вере, но это далеко не так. Необходимо мыслить самостоятельно и критично, согласно с Писанием и контекстом эпохи, а не слепо повторять старые формулы и множество спорных постановлений».
Голос всей Церкви в вопросах вероучения – это голос Святаго Духа [39]. Любое соборное решение, как минимум касающееся вопросов веры и нравственности [40], которое рано или поздно [41] [42] было принято всей Кафолической Церковью,то есть всеми автокефальными Поместными Церквями в лице их Предстоятелей с согласия епископата, – совершенно однозначно является решением безошибочным.Тоесть такое решение было принято при помощи Святаго Духа, и поэтому оно несомненно свято и истинно [43].
Отвергающие возможность для всей Церкви безошибочно возвещать и раскрывать истины христианской веры во все века (когда обнаружится общее согласие Церквей), не отвергают ли вместе с этим (подобно протестантам) и саму Церковь как столп и утверждение истины (1Тим. 3:15)? Ещё хуже, если кто-то дерзает утверждать, что вся Церковь в лице епископата могла соборно впасть в заблуждение в вопросах веры, подвергшись латинскому или иному влиянию. Естественно, с подобными воззрениями положительное учение Церкви становится весьма урезанным (например, ограничиваясь семью Вселенскими Соборами), а далее Церковь оказывается немой и мертвой, не способной уверенно отличать истины веры от их искажения.
Святой Нектарий учит, что только в Православной Церкви, как в Ноевом ковчеге, можно обрести спасение: «Вне Церкви – этого Ноева ковчега, нет никакого спасения». Многие другие святые, также говоря о невозможности спасения вне Церкви [44], пишут о Ноевом ковчеге как прообразе единственно возможного места спасения [45].
Чтобы соединиться со Христом и идти по пути спасения, нужно быть в Кафолической Церкви. Правильному пониманию Священного Писания нужно учиться у Православной Церкви: «Только Церковь ведет ко Христу верующих в него и дает им верное понимание Священного Писания». Неужели люди вне Церкви не способны понимать текст Писания? Далеко не всё в Писании можно верно понять своим умом [46].Где же Церковь толкует Писание?На своих святых Соборах, через своих святых угодников, а также всех верных чад, толкующих Писание в согласии с Преданием и просвещаемых при этом благодатью Святого Духа.
«Без авторитета Церкви нет ничего устойчивого, неоспоримого, надежного для спасения. Только авторитет Церкви хранит чистым и незапятнанным апостольское наследие; только через него передаются чистыми и незапятнанными истины апостольской проповеди. Без авторитета Церкви содержание веры может подвергаться искажениям, а апостольская проповедь превратится в напраслину. Без видимой Богом созданной Церкви не может существовать никакой связи между членами какой-либо общины, которая не была бы Телом Христовым, ибо Тело Христово – это Его Церковь, Главой которой Он является. Без Церкви никто не может соединиться с Телом Христовым; никто не может стать членом Христовым, если не возродится и не станет участником благодати, которая пребывает в Церкви» [47].
Критика: «Религиозные фанатики всегда стремятся навязать всем свои радикальные представления о Боге и христианстве, как единственно верные... Такой подход свойственен тоталитарным сектам, а не евангельской любви! Как Вы смеете отказывать всем добрым христианам других конфессий в благодати и спасении, как будто имеете на них авторские права? Это лишь ваше маргинальное мнение, а не мнение Церкви. Не смейте никогда говорить от лица Церкви!».
Святой Нектарий вновь подчеркивает, что неискаженное Апостольское Предание сохраняется в истинной Церкви, а вне её подвергается искажениям. В своём труде святитель довольно обстоятельно критикует протестантское лжеучение о невидимой церкви [48]. Примечательно, что сразу после смерти святителя это лжеучение [49] стало очень популярным в среде экуменистов [50], в том числе и некоторых православных представителей.
Истинная Церковь Христова видима и вполне обнаружима [51]. Освящающая благодать спасительно действует только в истинной Церкви: «...без Церкви никто не может соединиться с Телом Христовым; никто не может стать членом Христовым, если не возродится и не станет участником благодати [52], которая пребывает в Церкви».
Святитель
Нектарий часто акцентирует внимание на ряде важнейших экклесиологических
догматов и противопоставляет [53] их
воззрениям протестантов [54]:
«Протестанты, определяющие Церковь, как невидимое общество, собрание избранных, святых, общество веры и Святого Духа, в котором, якобы, действует Спаситель, сами себя отлучают от Божией благодати, раздаваемой Церковью, к которой они не принадлежат. Отрицающие видимую Церковь Христову отрицают также и природу Церкви, то есть ее конкретный характер, делающий из нее божественное учреждение на земле, в котором непрерывно продолжается искупительное дело Спасителя.
Те, кто любит себя называть членами невидимого общества святых, состоящего из святых всей земли, известных одному только Богу [55], кто полагает, что посредством чисто теоретической веры в Спасителя они становятся участниками Духа Святого, кто думает, что Спаситель творит их спасение без посредства созданной Им Церкви, тот заблуждается, ибо «ехtra ecclesiam nulla salus» (вне Церкви нет никакого спасения – лат.). Вне Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви нет никакого спасения. Эта Церковь видима, она – не просто собрание людей, верующих во Христа. Она – божественное учреждение. Ей было поручено охранение истин, открытых нам Богом. В ней осуществляется искупление человека. В ней человек общается с Богом и становится Чадом Божиим».
Критика (на сей раз в стиле экуменической риторики): «Нам следует отбросить узкоконфессиональные предрассудки и разрушить человеческие перегородки силою всепобеждающей любви, всепрощения, открытости, единства и солидарности! «Да будут все едино» (Ин. 17:21) – заповедует Сам Господь! И кто мы такие, чтобы Ему противиться? (Деян. 11:17). Разве может кто-то претендовать на обладание полнотой истины? Вам не стоит быть столь самоуверенными и категоричными в своих ультра-ортодоксальных суждениях. Пришло время расширять свой разум и сердце для ответственного диалога любви. Где любовь – там и Бог! Где единство и взаимопонимание – там и благодать! Возлюбим друг друга и возобновим полноценное братское общение, даже если мы (до сих пор…) не во всем согласны друг с другом!
Пускай некоторые утверждают, что есть только одна Церковь и только она вводит в рай… Хорошо. Потому что сегодня мы все с этим согласны! В действительности в Церковь входим все мы – все христиане различных деноминаций (и одни ли только христиане?), которые не отказывают друг другу в любви и спасении, и которые всегда, с полной ответственностью, стоят на стороне правды и добра.
Жесткое настаивание на едином доктринальном взгляде препятствует расширению благих возможностей, которые может открыть непредвзятое принятие различных утверждений об истине, как прекрасных граней одной и той же веры. Наши разрозненные видения истины, как маленькие ручейки, должны слиться в одну могучую реку и дать человечеству новый мир, с новым благим порядком (Прим. ред. – и новым мессией…)!»
Церковь – это божественное учреждение, а не просто собрание верующих людей, объявивших себя уже искупленными и спасенными [56]. Святитель пишет, что в Церкви «непрерывно продолжается искупительное дело Спасителя», «в ней осуществляется искупление человека».Каким образом? Через приобщение к плодам искупительной Жертвы Христа, через веру и Таинства истинной Церкви [57], в которой одной можно приобщиться к благодати этих Таинств [58].
Святитель Нектарий неустанно говорит о том, что вне Православной Церкви нет спасения [59]. Для чего в своём труде он многократно повторяет одно и то же вероучительное положение? Не потому ли что оно имеет особую важность для всех людей?
Может быть, святителю не хватало человеколюбия или рассудительности, чтобы не быть столь категоричным и упрямо не учить столь непопулярному и пререкаемому среди современных православных положению? Конечно, мало кто из православных решится уличить святого Нектария в недостаточной духовности или нелюбви к людям, поэтому повинными окажутся лишь пресловутые фундаменталисты…
Не в этом ли как раз и состоит любовь святителя, чтобы с сердечной верою повиноваться прежде всего Богу и Его Церкви [60] и говорить людям правду о гибельности иных путей, также обещающих спасение? Обязанность любого православного христианина – повиноваться Кафолической Церкви и с верою исповедовать её учение, если он действительно хочет оставаться сыном Церкви. Всё, что христианам необходимо для спасения души в плане вероучения и нравоучения, Господь уже открыл своей Единой и единственной Церкви [61]. Под всевозможными предлогами, например, что Бог не открывает нам все тайны и Свой Промысел о людях, нельзя противоречить учению Церкви [62], как бы благовидно и любвеобильно нам самим это не казалось [63].
Продолжение следует…
[1] Святитель Нектарий (1846 - 1920☦), митрополит Пентапольский Александрийской Православной Церкви. В миру – Анастасий Кефалас. Сын бедных православных родителей. С детства полюбил храм, Священное Писание и молитву. Бедность родителей не позволила учиться на родине, и в 14 лет он уехал в Константинополь, чтобы устроиться на работу и самому оплачивать учебу. В возрасте 22 лет Анастасий переселился на остров Хиос и начал работать школьным учителем в деревне Лифи. Здесь он не только преподает, но и проповедует. Его влияние на учеников было таково, что те, а через них и все взрослые, вскоре прониклись к нему любовью и глубоким уважением. На Хиосе и в Константинополе Анастасий изучал творения отцов Церкви, а также античных классиков.
1873 году становится послушником в знаменитом монастыре Нэа Мони (Новом монастыре). 7 ноября 1876 года принял монашеский постриг с именем Лазарь и получил послушание секретаря. 15 января 1877 года рукоположен в сан диакона с именем Нектарий, что означает «бессмертный».
13 ноября 1885 года окончил богословский и философский факультет в Афинах, и тогда же его приблизил к себе Александрийский Патриарх Софроний (Меиданцоглу).
Епископское достоинство (с 1889 года) никак не изменило образа жизни и поведения Нектария. Однако быстрое возвышение, любовь Патриарха и народа, а еще более добродетельная и чистая жизнь святителя во многих вызывали зависть и ненависть. Влиятельные люди патриаршего двора опасались, что всеобщая любовь к святителю приведет его в число претендентов на место патриарха Александрийского, так как Софроний был уже в преклонных летах. Они жестоко оклеветали святителя, обвинив не только в посягательстве на патриаршество, но и в аморальной жизни. Святой не пытался оправдываться и защищаться.
В августе 1890 года прибыл в Грецию. Враждебная настроенность тенью следовала за ним и в Афинах. Тщетно он ходил по инстанциям, его нигде не хотели принимать. Любовь народа сопутствовала Нектарию. Но до конца жизни он должен был нести крест изгнания и имя опального митрополита, не принадлежащего ни к одной Автокефальной Церкви. Постепенно тьма клеветы отступала от имени опального святителя.
После кончины его тело долгое время оставалось нетленным и обильно мироточило, над мощами и по его молитвам совершаются неисчеслимые чудеса и исцеления. В Греции существует народная поговорка: «Нет ничего неисцелимого для святого Нектария». (Подробнее читайте: НЕКТАРИЙ ЭГИНСКИЙ - Древо; НЕКТАРИЙ ЭГИНСКИЙ)
[2] Характерная черта его работ – многообразие познаний автора, высокая эрудиция, прекрасное знание Священного Писания, творений святых Отцов, на которых и зиждется его Православие. Нектарий занимает место среди крупнейших богословов XX века. Ему были хорошо известны основные течения инославных богословских учений, которым он часто противопоставлял православную мысль и православную традицию. Будучи великолепно образованным, он знал латынь и французский язык. В библиотеке его эгинской келии можно увидеть толстые французские словари и энциклопедии, богословские труды и труды по французской литературе. (https://azbyka.ru/otechnik/Nektarij_Eginskij/svjatitel-nektarij-eginskij-zhizneopisanie/#sel=281:1,282:28)
Желая продолжать учебу, юный Анастасий со временем был вынужден был оставить свою работу. Он нанялся в качестве школьного лаборанта в один из константинопольских колледжей, входивший в юрисдикцию храма Гроба Господня и, преподавая в нем в начальных классах, имел возможность обучаться в старших. Однажды ему захотелось поехать в родные места, в Селибрию, чтобы отметить там Рождество Христово. Он сел на парусный корабль, ибо дороги в то время были плохими и редкими. В пути разыгрался настолько сильный шторм, что корабль чуть не потерпел крушение. Многие путешественники роптали на Бога. Анастасий же, ухватившись за провисшие паруса, из глубины сердца взывал к Господу: «Боже мой, спаси меня. Я буду учить богословие, чтобы заставить молчать тех, кто хулит Имя Твое Святое». Внезапно шторм прекратился и корабль, целый и невредимый, вошел в порт раньше намеченного времени. (Там же)
Вот что говорил святой Нектарий после своей хиротонии: «Господи, почему Ты возвел меня в столь высокое достоинство? Я просил Тебя соделать меня всего лишь богословом, а не митрополитом. С малых лет я молил Тебя удостоиться стать простым тружеником на ниве Твоего божественного слова, а Ты испытываешь меня теперь в таких вещах...» (https://azbyka.ru/otechnik/Nektarij_Eginskij/svjatitel-nektarij-eginskij-zhizneopisanie/#sel=281:1,282:28;135:1,135:112)
[3] Прямо отвечать на критику мы как-правило не будем. Однако статья обильно снабжена сносками с различными аргументами, ссылками на мнения православных богословов и святых, научные работы, подборки цитат и проч., которые так или иначе служат подтверждением нашей позиции по ряду вероучительных вопросов и дополнительным материалом.
Следует также отметить, что авторские статьи представляют собой любительскую публицистику на вероучительные и богословские темы и не предполагают строгого научного оформления. Поэтому в них можно обнаружить частые и весьма объемные цитирования, компиляции из других источников, множество пространных сносок с нашими или чужими комментариями и прочие вольности. Цель статей – не авторская оригинальность или развитие-раскрытие богословия, а посильная апологетика православного вероучения и, надеемся, польза для читателей.
[4] Кажется, что модернисты не совсем ясно понимают, что значит слово «схоластика» и однозначно приписывают ему негативное содержание. Этот термин в древности означал обучение, образование, ученость, а затем – стиль мышления и метод изложения, когда материал располагается в определенной системе и рассматривается посредством анализа. Существовали греческая схоластика, например, «Категории» Аристотеля, а также китайская, индийская, мусульманская... Что касается схоластики в христианском богословии, то она возникла в Византии в рядах эпигонов и комментаторов святоотеческих творений. Элементы схоластики можно найти в главном произведении преподобного Иоанна Дамаскина «Точное изложение православной веры», которое было несколько раз переведено с греческого на латинский язык, и послужило одним из источников «Суммы теологии» Фомы Аквинского» – вершины западной теологии. Модернисты упрекают православных богословов в том, что они в некоторых случаях использовали собранный на Западе материал. Но опять недоразумение. Базовым источником схоластики являлось византийское богословие. Из западной схоластики православные теологи брали то ценное, что всегда принадлежало Церкви, и крупицы найденного золота тщательно отделяли от земли. То, что было взято из схоластики Запада, в значительной мере является возвращением того, что Запад взял от Востока и переложил на свой язык. Некоторым аналогом этого процесса могут служить переводы на арабский язык Аристотеля, труды которого в связи с утратой подлинников были впоследствии вновь переведены с арабского на греческий и латинский языки. Говорить, что Православная Церковь находилась в католическом плену в течение нескольких веков также возмутительно, как утверждать, что отцы Церкви, использовавшие терминологию и некоторые идеи Сократа, Аристотеля, Платона и платоников, находились в языческом плену. (Источник: архм. Рафаил Карелин. Почему модернисты ненавидят схоластику?)
[5] Условно «среднестатистическому» читателю может быть даже трудно представить, насколько сильно современное православное богословие определяется программой неопатристики, то есть кругом идей протоиерея Георгия Флоровского, В.Н. Лосского и их последователей, вроде протоиерея Романидиса. Прежде всего, подобное заметно в области круга интересов, поднятых тем и расставленных акцентов. Пожалуй, ярче прочего это проявляется в нашем сравнительном, обличительном богословии.
Открой нынешний читатель любой трактат против латинских заблуждений начиная от времён св. патриарха Фотия и до св. Феофана Затворника, он увидит едва ли не один и тот же набор возражений: в начале и прежде всего — Филиокве, изменение Символа веры, претензии на вселенскую юрисдикцию и папскую безошибочность, потом вопросы совершения Евхаристии, существование чистилища, обливательное крещение и т. п., и т. д. Иногда, но редко, добавляются штрихи: претензии к католической мистике у св. Игнатия (Брянчанинова), например.
Однако, если мы вдруг послушаем современных авторов, то окажется, что с их точки зрения, все старые полемисты не уловили сути дела. Подлинные же и главные заблуждения Рима – в излишнем юридизме, эссенциализме, в концепции искупления, в схоластике, в натуралистическом учении о пресуществлении, – словом, во всём том, в чём православные авторы прошлых веков вовсе не видели разницы между православием и католичеством. Это всего лишь один, пусть и самый яркий, пример того, как переоформила православное «богословие для народа» неопатристика. (Станислав Минков. Публицист-апологет. Aletheia | Православное богословие)
[6] Основоположником такого подхода к отечественному богословию стал, по-видимому, известный отечественный философ-славянофил А. С. Хомяков (1804-1860). Его мнения впоследствии сильно повлияли на наших богословов-эмигрантов XX века, в частности митрополита Антония (Храповицкого) (1863–1936) и его учеников, а также сонма других богословов и священнослужителей вплоть до наших дней.
[7] В настоящее время модернистические силы, окопавшиеся в Церкви, под видом борьбы за чистоту Православия, ведут подрыв основ самого Православия. Для осуществления своих далеко идущих замыслов им надо извратить и переиначить традиционное вероучение, ведущее начало от апостолов, разорвать богословскую преемственность, разрушить догматику, уничтожить образцы веры, утвержденные на Соборах, и на духовном пустыре создать универсальную религию, а на месте взорванной Церкви построить свой пантеон.
В настоящее время модернистические силы, окопавшиеся в Церкви, под видом борьбы за чистоту Православия, ведут подрыв основ самого Православия. Для осуществления своих далеко идущих замыслов им надо извратить и переиначить традиционное вероучение, ведущее начало от апостолов, разорвать богословскую преемственность, разрушить догматику, уничтожить образцы веры, утвержденные на Соборах, и на духовном пустыре создать универсальную религию, а на месте взорванной Церкви построить свой пантеон.
Модернисты объявили Церковь «больным организмом», зараженным католическими заблуждениями и на этом основании требуют лечить ее, то есть подвергать инъекциям теософии, рационализма и протестантизма, как в недавние времена исповедников христианства подвергали насильственному лечению психотропными средствами, от которых нормальный человек заболевал. Модернисты осмеивают православные догматы и не стесняются даже глумиться над главным сотериологическим догматом об искуплении. Эти протестантствующие теологи пытаются представить католицизм как антипод Православия, и фрагментальные сходства между католическим и православным богословием интерпретировать как влияние католицизма, которому якобы подвергается Восточная Церковь в течение уже нескольких веков.
Однако католицизм представляет собой не антихристианство, а искаженное, деформированное, засоренное ложными догматами и преданиями христианство. Если рассмотреть католический катехизис, то можно увидеть в нем отклонения от истины, извращение экклесиологии, болезненные наросты в области догматики и так далее, но вместе с тем обнаружить, что часть католического катехизиса текстуально совпадает с православным. Естественно, что католицизм сохранил немало из патристического наследия того времени, когда Римский патриархат находился в молитвенном общении с восточными церквями и представлял с ними единую Церковь. Отколовшись от Православия, католицизм создал другое ментальное и духовное поле, где одни и те же термины приобрели различную семантику и звучание. Поэтому вербальные совпадения не могут говорить о католическом влиянии, и тем более о католическом «пленении». (Почему модернисты ненавидят схоластику? / Православие.Ru)
[8] Оценки деятелями неопатристической школы (например, епископом Василием (Кривошеиным) и протоиереем Георгием Флоровским) таких монументальных работ, как «Православное исповедание» святителя Петра и сочинения Патриарха Досифея (Нотары), диктовались банальным незнанием фактов и прямым незнакомством с текстами. Хуже того, противопоставление неопатристами пребывающих в «латинском пленении» иерархов духоносным старцам Оптиной лишается всякого смысла. Когда мы знакомимся с письмами преподобного Амвросия Оптинского, с горячей похвалой отзывавшегося о «Православном исповедании». «…» Если для либеральных критиков неопатристики отцы представляют собой нечто устарелое, мешающее свободному развитию философской мысли, то для самой неопатристики стиль и дух Отцов настолько оторван от буквы текста, что эта буква оказывается едва ли не в полном пренебрежении. Это совершенно не соответствует святоотеческому взгляду на вопрос соотношения духа и текста.
Но нельзя не отметить, что неопатристический взгляд открывает много возможностей для философии без утомительной необходимости сверяться с фактами; «ленивое богословие» неопатристики обладает неотразимым очарованием именно в силу лёгкости метода для усвоения. (Источник: Апологет Станислав Минков, Размышления по поводу статьи П.А. «Анализ неопатристического синтеса…»; Aletheia | Православное богословие)
[9] Конструирование «нового святоотеческого богословия» у авторов неопатристического направления отделяется от патрологии и знания текстов отцов Церкви, более того – даже отчасти противопоставляется ему: «мало знать отеческие тексты и уметь из отцов подобрать нужные справки или доказательства. Нужно владеть отеческим богословием изнутри. Интуиция вряд ли не важнее эрудиции, только она воскрешает и оживляет старинные тексты, обращает их в свидетельство». (Георгий Флоровский, прот. Пути русского богословия. М., 2009. С. 640–641.) Здесь (особенно в замечании о значении интуиции для понимания святоотеческого богословия) нельзя, конечно, не увидеть некоторого следа герменевтической теории Шлейермахера, который, как известно, усматривал цель герменевтического процесса в том, чтобы понять автора «лучше, чем тот понимал сам себя». Задача сверхрационального понимания авторского замысла через усвоение себе его духовного состояния, о которой говорит Флоровский, тоже взята у немецкого теолога; именно он предлагал читателю интерпретатору психологически воссоздать в себе самом процесс рождения произведения в душе автора, поскольку понимание есть «историческое и интуитивное (пророческое) объективное и субъективное воссоздание данной речи» (Шлейермахер Ф. Герменевтика. М., 2004. С. 63.).
Таким же образом предлагает воспринимать отцов и В.Н. Лосский: их нужно «не просто цитировать», но «усвоить их φρόνημα, их дух» (и, конечно, «усвоение φρόνημα τῶν πατέρων», несмотря на использование греческого термина, который придает фразе «патристическую» стилистическую окрашенность, подразумевает все то же интуитивное познание по Шлейермахеру). Наследие древней Церкви, таким образом, усваивается не столько через тексты, сколько через психологическое самоотождествление с его носителями, которое могло принимать совершенно буквальный характер; как известно, однажды на замечание о смерти отцов Церкви Флоровский ответил восклицанием: «Отцы Церкви не умерли. Я еще жив!». Он был, кажется, единственным, кто говорил о самом себе как об отце Церкви, но в целом богословы неопатристического направления подчас награждали друг друга этим титулованием (помимо Флоровского и предтечи неопатристики А.С. Хомякова*, прозвание отца и учителя Церкви носил также В.Н. Лосский).
*«Этот отставной штаб-ротмистр, Алексей Степанович Хомяков – учитель Церкви? Он самый» (Самарин Ю.Ф. Предисловие // Хомяков А.С. Полное собрание сочинений. СПб., 1886. Т. 2. С. XXVI–XXVII); как отмечает исследователь, и «у Флоровского Хомяков в статусе пророка: он “свидетельствует” об истине Церкви» (Гаврюшин Н.К. Русское богословие. Очерки и портреты. Нижн. Н., 2011. С. 195). (Источник: Анализ основных тезисов «неопатристического синтеза» и их применение в богословских исследованиях - П. А. Пашков )
[10] Если подавляющее большинство Святых Отцов (начиная с древних) единогласно высказываются по важному вероучительному или нравоучительному вопросу, то их согласие всегда принималось Церковью как несомненная истина, раскрытая Церкви Святым Духом. Это богословское утверждение, четко сформулированное преподобным Викентием Леринским, принимали и все последующие святые отцы: (См. Преподобный Викентий Леринский – «О вероизложениях вообще»
И из другого его труда: «А верить им должно по такому правилу: что только или все они, или большинство их единомышленников принимали, содержали, передавали открыто, часто, непоколебимо, как будто по какому предварительному согласию между собою учителей, то почитать несомненным, верным и непререкаемым; а о чем мыслил кто, святой ли он или ученый, исповедник ли и мученик, несогласно со всеми или даже противореча всем, то относить к мнениям личным, сокровенным, частным, и отличать от авторитета общего, открытого и всенародного верования, дабы, оставив древнюю истину всеобщего учения, по нечестивому обычаю еретиков и раскольников, с величайшей опасностью относительно вечного спасения, не последовать нам новому заблуждению одного человека. Дабы кто не вообразил, будто он дерзновенно может презирать святое и кафолическое согласие сих блаженных отцов. «…» (См. Преподобный Викентий Леринский – «Памятные записки Перегрина о древности и всеобщности кафолической веры»)
И из другого его труда: «А верить им должно по такому правилу: что только или все они, или большинство их единомышленников принимали, содержали, передавали открыто, часто, непоколебимо, как будто по какому предварительному согласию между собою учителей, то почитать несомненным, верным и непререкаемым; а о чем мыслил кто, святой ли он или ученый, исповедник ли и мученик, несогласно со всеми или даже противореча всем, то относить к мнениям личным, сокровенным, частным, и отличать от авторитета общего, открытого и всенародного верования, дабы, оставив древнюю истину всеобщего учения, по нечестивому обычаю еретиков и раскольников, с величайшей опасностью относительно вечного спасения, не последовать нам новому заблуждению одного человека. Дабы кто не вообразил, будто он дерзновенно может презирать святое и кафолическое согласие сих блаженных отцов. «…» Итак, кто презирает сих, свыше распределенных в Церкви Божией в разные времена и по разным местам, согласно о Христе мудрствующих что-нибудь относительно кафолического учения, тот презирает не человека, но Бога». (https://azbyka.ru/otechnik/Vikentij_Lirinskij/pelegrin/#sel=38:255,38:565)
[11] «Новое патристическое богословие», по замыслу его ведущих разработчиков, должно совпадать с собственно святоотеческим, в первую очередь, в отношении «стиля», в то время как фактологическое, буквальное совпадение с ним не только не обязательно, но и не является вполне нужным (даже само познание его – это не более чем «библиотечная работа» и «гербаризация»).
Такая методологическая установка ставит под сомнение патристичность самого «стиля», поскольку богословие самих отцов было как раз в значительной степени построено на суховатой книжной работе*. Недаром VI Вселенский Собор остроумно назван «Собором библиотекарей и архивариусов»**. Характерно, что в сочинениях святителя Григория Паламы (например, в «Антирретиках против Акиндина») присутствует несколько сотен ссылок на святых Григория Богослова, Василия Великого, преподобного Максима Исповедника и др. И потому всякий богословский «стиль», противопоставленный патрологической, даже филологической, «библиотекарской», работе с цитатами и источниками, с неизбежностью оказывается уже не вполне патристическим. Отцы не гнушались богословским исследованием, их взаимодействие с предшественниками было подчас действительно глубоким и творческим «раскрытием» учения последних (ἀνάπτυξις, как обычно византийцы обозначали этот процесс). Однако они никогда не отрывались от конкретики текстов и цитат, сознавая при том, что порой раскрытие подлинного учения Церкви требует масштабного исследования патристических текстов и согласования множества различных свидетельств.
* Достаточно вспомнить, что песнопения двунадесятых праздников прп. Иоанна Дамаскина – одна из вершин богословской поэзии – в половине случаев представляют собой буквально цитаты из соответствующих Слов святитителя Григория Богослова.
**Валентин Асмус, прот. Вселенский VII Собор // ПЭ. Т. 9. С. 655; аналогичные черты в богословии, например, того же Иоанна Дамаскина отмечает и протопресвитер Александр Шмеман (Александр Шмеман, Исторический путь Православия. - М., 2016. С. 287). (См. П. А. Пашков – «Анализ основных тезисов «неопатристического синтеза» и их применение в богословских исследованиях»)
[12] Смотрите статьи иеромонаха Гавриила (Хутена): Об обвинениях в православном фундаментализме (Часть 1)
[13] Например, ряда так называемых «парижских богословов», на трудах и идеях которых во многом построено наше современное академическое богословие.
«Идеи «неопатристики» положены в основание лекционных курсов в духовных семинариях и академиях, им посвящено множество статей, диссертаций и монографий как внутри Русской Православной Церкви, так и вне ее. Влияние «неопатристики» исключительно велико за пределами не только Русской Православной Церкви, но и вообще православия. Следование идеям «неопатристичекого богословия» в какой-то момент оказалось (методологически и догматически) в роли практически безальтернативного критерия того, каким способом возможно достижение аутентичного понимания православного богословия прежних веков». (П.А. Пашков, Анализ основных тезисов «неопатристического синтеза» и их применение в богословских исследованиях )
Отметим, что эта тенденция (благодаря, например, таким замечательным работам, как вышеприведенная) похоже начала понемногу меняться, и всё больше церковных ученых и богословов стали гораздо критичнее относиться к школе неопатристического синтеза и их единомышленникам. (См. выдержку критических комментариев ряда православных ученых на эту тему.)
В эту же эпоху [Синодальную], в связи с упомянутым распространением в церковной среде сочинений и идей А. С. Хомякова, возникает и феномен академического «нового богословия». Он оформляется как раз ко времени наибольшего расцвета пастырской деятельности и популярности отца Иоанна [Кронштадского] — в 90-е годы XIX столетия — и продолжает активно развиваться в начале XX века. Его крупнейшими представителями были митрополит Антоний (Храповицкий), будущий Патриарх Сергий (Страгородский), профессор Казанской академии В. И. Несмелов, будущий священномученик Иларион (Троицкий).
К этому времени академическая наука прошла свой путь освоения немецкой философии, берущей начало с трудов святителя Иннокентия Херсонского и выводящей прежде всего на христологическо-антропологический горизонт. Именно на указанной общей философской основе антропология академистов встречается с экклезиологией мирян, воспринимая от последних не только пафос соборности, но и методологическую предпосылку, подразумевающую формирование не пересекающегося с западным богословием особого православного мнения по всем богословским проблемам. Этот направленный против Запада посыл своей побочной целью и у новых богословов из академистов имел теперь саму школу, находившуюся, по их мнению, в путах западной схоластики. В результате мы приходим к двум тезисам, уже знакомым нам по работам представителей внеакадемического богословия: как и у последних, своеобразие нового школьного богословия определяется противостоящей Западу логикой конфессионализации и одновременно парадигмами западной философии эпохи модерна.
Разница в том, что что эти представления транслируются теперь в богословскую науку, накопившую уже солидные патрологические знания, и требуют проведения стандартных операций научно-богословского исследования: соотнесения с текстами Откровения и святых отцов. При этом порожденная, в том числе антизападным посылом, интенция возвращения к святым отцам в большинстве случаев не приводит к критическому осмыслению выдвигаемых тезисов, так как вопрос хотя бы о корректном соотнесении их (отцов) философского инструментария с аналогичным инструментарием эпохи модерна даже не ставится. Иными словами, место предполагаемого когда-то Киреевским нового любомудрия по образцу отцов занимает в данном случае попытка найти у отцов подтверждение концептов, определяемых установками "нового богословия", — попытка, приводящая к осознанной или неосознанной необходимости корректировки, переосмысления отцов там, где их тезисы не отвечали современным идеям». (профессор Хондзинский П., протоиерей, доктор богословия. Богословские портреты: Очерки святоотеческого богословия Синодальной эпохи. М., 2021. С. 265.)
[15] Кратко рассмотрев важнейшие работы первых представителей нового богословия из духовно-академической среды [Прим. – перечисленные в вышестоящей сноске], мы видим, что они вслед за своими предшественниками из мирян употребляют освоенный к тому времени школой язык западных гуманитарных наук (немецкой философии, психологии) прежде всего для того, чтобы резко разграничить православное богословие и западную христианскую традицию. Причем потребность в таком разграничении возникает под воздействием широко распространенных тогда хомяковских идей. Кроме того, следует обратить внимание на необычайную влиятельность нового движения. Так, например, Виктор Островидов решился анонимно опубликовать свою критику нового богословия лишь в старообрядческой газете. (См. протоиерей Павел Хондзинский - Русское «новое богословие» в конце XIX – начале ХХ в.: к вопросу о генезисе и содержательном объеме понятия)
[16] За это нередко ругают нашу Синодальную Церковь с её сонмом выдающихся богословов, святителей и преподобных, которые, как правило, учили тому же, чему и святой Нектарий. В то время как в учебниках и научных трудах писали более строгим выверенным «академично-схоластическим» языком, с четкой терминологией и системой изложения материала (что ряд критиков решительно счёл вредоносной пролатинской схоластикой).
[17] Если Святые Отцы и признавали какую философию, то именно философию Аристотеля. В то время как с Платоном шла постоянная борьба, как и с христианским платонизмом. Что же касается популярного неоплатонизма, то даже платонический его интерпретатор Лосев охотно признает его синтезом платонизма и аристотелизма.
Чтобы быть аристотеликом, не обязательно читать Аристотеля и ссылаться на него. Важнейшим источником средневекового аристотелизма не только у греков, но и у сирийцев, арабов и латинян была «Краткая Исагога к Категориям Аристотеля» неоплатоника Порфирия. Настоящим расцветом святоотеческого аристотелизма ознаменован VI век, когда продолжавшиеся более века христологические споры потребовали терминологичекских уточнений и философского обоснования. В этом веке были составлены христианскими авторами большие комментарии к Аристотелю. Богословие этого века – настоящая «первая схоластика». (Источник: прот. Валентин Асмус - Евхаристия)
[18] «Святитель Нектарий Эгинский, которого мы знаем в первую очередь как чудотворца и целителя, был в том числе и богословом-догматистом, причем в глубоко традиционном духе — его сочинения изобилуют ссылками на Символические книги и даже на «Догматику» блаженной памяти митрополита Макария Булгакова». (П. А. Пашков, переводчик, преподаватель ПСТГУ)
[19] Из трудов святителя Нектария Эгинского
Перед этим, святой Нектарий дал определение Церкви в широком смысе, включая в Церковь святых ангелов, ветхозаветных праведников и верующих в Единого Бога людей, ожидавших пришествия Христа Спасителя:
«В широком и христианском смысле Церковь есть общество всех свободных и разумных существ, всех, кто верит в Спасителя, в том числе и ангелов. Апостол Павел говорит: и поставил (Бог Отец) Его (Иисуса Христа) выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем (Еф. 1:22–23). Таким образом, он объединяет всех, кто верил во Христа до Его пришествия в мир, кто формировал Церковь Ветхого Завета, которая во времена Патриархов управлялась обетованиями и данной в откровении верой, то есть устно. Затем, во времена Моисея и Пророков, она управлялась Законом и Пророчествами, то есть письменно».
Как мы увидим далее, святой Нектарий вовсе не включает в состав Церкви протестантов и вообще всех еретиков, которые не содержит Православной веры. Что, впрочем, видно и из приведенного отрывка.
[20] Напоминаем, что это вовсе не наша критика, а пример критики, которую можно услышать от условных либеральных богословов и экуменистов в сторону традиционного православного вероучения. Мы не будем воспроизводить подобную критику слишком часто, потому что она, как правило, довольно однообразна или примитивна. На поверку стандартные модернистские аргументы часто оказываются вовсе не такими возвышенными и духовными, как это кажется тем, кто их выдвигает, а скорее куда более приземленными и рационалистическими, чем у «радикальных фундаменталистов», поскольку модернисты гораздо больше опираются на собственное мудрование и логику, чем на обожжённые умы сонма святых отцов и богопросвещаемый голос Церкви.
[21] Маркус Плестед — историк богословия, патролог, доктор философии, профессор Университета Маркетт (США); с 1992 года — православный христианин:
«Противопоставление Востока и Запада обыкновенно выражают в том числе и в категориях методологической несовместимости. Эта дихотомия находит чрезвычайно яркое выражение у Герхарда Подскальски. Для Подскальски триумф паламизма означает отказ от разума и поражение любого по-настоящему систематического или хотя бы логически упорядоченного подхода к богословию. Византийское богословие сделалось сформулированным ad hoc ответом на конкретные проблемы, основанным только на монашеском опыте. Большей частью оно представляет собой не более чем собирание святоотеческих свидетельств, зачастую — с целью патриотично утвердить свою национальную идентичность. При столкновении с латинской богословской традицией, куда более изощрённой, у византийцев были всего два варианта: изумленное удивление или полное отрицание.
Представление о непреодолимом методологическом противоречии принадлежит не одному только Подскальски. Многие православные авторы, не разделяя его убеждённости в превосходстве Запада, тем не менее находили такой подход весьма близким для себя и радостно противопоставляли апофатический и мистический Восток рациональному и схоластическому Западу.
Этот подход был описан Владимиром Лосским. Его охотно принимали такие авторы, как Иоанн Мейендорф, Филипп Шеррард и Хри́стос Яннарас. Звучали и более проницательные голоса — в частности, Каллист Уэр и Андре де Аллё подвергли сомнению осмысленность резкого противопоставления теологических методологий Востока и Запада; впрочем, в методологической инаковости этих двух традиций они особо не сомневались. «…»
Рассуждения о методологической инаковости Востока и Запада неизменно обращаются к следующей теме: новоизмышленная и чрезмерно рационалистическая по своему характеру Западная схоластика противопоставляется апофатической и построенной на опыте традиции христианского Востока. Этому противопоставлению придают необоснованно большое значение. Если мы понимаем под схоластикой не какую-то карикатуру — ничем не ограниченный разум, — а аккуратное и строго упорядоченное употребление разума для раскрытия и более точного определения истины Откровения, подкрепленное обращением к святоотеческим и философским авторитетам (именно в таком порядке), то никак нельзя отрицать, что этот метод не просто свойственен Византии, но и происходит из нее.
Византийское богословие никогда не ограничивалось апофатикой и мистикой, но зачастую могло служить примером того самого суховатого занудства, которое так огорчало критиков схоластики — как на Востоке, так и на Западе. Если и можно указать момент ощутимого методологического сдвига, то это переход от более непосредственно основанного на Писании, более открытого и риторичного стиля отцов III-IV веков к определенно более формализованному и склонному к опоре на авторитет характеру богословского мышления со времен христологической полемики V века и далее». (Источник: Plested M. Orthodox Readings of Aquinas. Oxf., 2012. P. 44-46; Aletheia | Православное богословие)
[22] Это был пример довольно примитивной критики, но встречаются и куда более утонченные аргументы с попытками привлечения авторитета Предания.
[23] Из трудов святителя Нектария Эгинского.
[24] «Священное Писание относится к Священному Преданию как часть к целому». Это утверждение, как минимум, спорно. В трудах современных православных богословов оно, как правило, также констатируется, как самоочевидный факт (как и в одной из ранних наших статей), в то время как Отцы Церкви довольно четко разделяли Писание и Предание, как два самостоятельных источника одного Божественного Откровения: записанного апостолами и устно передаваемого учения апостолов и Христа. И то, и другое боговдохновенно, и в истинной Церкви раскрывается и разъясняется при содействии Духа во все века.
Святитель Иоанн Златоуст: «Апостолы не все предали веруюшим чрез послания, но многое сообщили и без письмени; между тем и то и другое равно достоверно. Посему мы должны признавать достоверным и церковное Предание» (Толкование на 2 Фес. 2:15-16)
Святитель Епифаний Кипрский: «Нужно держаться и Предания, ибо не все может быть заимствовано из Божественного Писания. По сему святые Апостолы одно предали в писаниях, а другое в преданиях, как и говорит святый Апостол: «Якоже предах вам» (1 Кор. 11:2), и в другом месте: «Так учу, и тако предал я во церквах» (7:17), и «аще содержите: разве аще не всуе веровасте» (15:2)».
«Из сохраненных в церкви догматов и проповеданий, некоторыя мы имеем от письменнаго наставления: а некоторые прияли от апостольского Предания, по преемству в тайне, и те и другие имеют едину и ту же силу для благочестия». (Правило 91 Василия Великого)
Православное Исповедание: «Из чего видно, что догматы веры получают свой авторитет и утверждение в некоторой степени от Священных Писаний, в некоторой степени от церковного Предания и учения Соборов, и Святых Отцов. Святой Дионисий [Ареопагит], объясняя это, говорит таким образом… То есть догматы Церкви бывают двух видов: одни переданы письменно – те, которые содержатся в Божественных книгах Священного Писания, а другие переданы апостолами устно. Эти самые были объяснены Соборами и Святыми Отцами. На этом двойном основании строится наша вера, которую надлежит не только хранить в тайне сердца, но и устами возвещать и исповедовать без страха и сомнения, согласно священному Псалмопевцу: «Я веровал, и потому говорил» (Пс. 115:1; 2Кор. 4:13); мы веруем и потому говорим. (Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной )
[25] Анафематизм 7 Вселенского Собора: «Кто отвергает всякое писанное и неписанное Предание церковное, тот да будет анафема». (Деяния Вселенских Соборов, Том 7, Деяние восьмое, Глава 16)
[26] Святитель Нектарий Эгинский (Кефалас) - Путь к счастью.
[27] «Мы должны изучать Слово Божье всегда под руководством Церкви, в каком бы то ни было отношении: историческом ли, археологическом, филологическом, экзегетическом и прочих. Положительное учение Церкви, твёрдое, неизменное, должно быть и началом, и правилом, и целью всех наших исследований такого рода и всех наших толкований на Священное Писание. Началом, к которому бы мы обращались постоянно, чтобы поверять им свои мысли. Правилом, которое бы указывало нам законные пределы для наших изысканий и напоминало: доселе дойдеши и не прейдеши. Целью, в пользу которой посвящены были бы все наши занятия. При этих условиях библейская археология, филология, критика, герменевтика и экзегетика не только не могут быть вредными (какими неизбежно являются они, когда, незаконно отвергши в деле Божественного откровения всякое руководство богоучреждённой руководительницы, основываются на одном лишь произвольном начале произвольного мнения, liberi arbitrii). Напротив, могут быть весьма полезными как верующим, так и самой Церкви: Верующим – тем, что уяснят для них многие догматы и истины содержимого ими православного исповедания; а самой Церкви – тем, что доставят важные, необходимые оружия для защиты учения её от врагов, которые действуют тем же оружием, и ничем другим не могут быть побеждены». (Введение в православное богословие, § 139. Непогрешимость вселенских соборов - митрополит Макарий (Булгаков))
[28] Исповедание православной веры Восточной Церкви, принятое Иерусалимским собором 1672 года.
[29] Святитель Нектарий Эгинский (Кефалас) – Христология.
[30] В наше время стало хорошим тоном порицать «схоластику», «школьное богословие». Многие хотели бы изъять из обращения и «Православное Исповедание» митрополита Петра Могилы. Посмотрим, что говорит об Исповедании профессор И. Кармирис, критик более других обстоятельный и объективный. Кармирис отмечает, что Могила «определенно и ясно изложил догматы Православной Церкви, противопоставив свое Исповедание кальвинистскому Лукариса и католическим исповеданиям… Исповедание объемлет… почти всю догматическую и нравственную часть православного учения». Отмечая следы латинских влияний в исповедании, Кармирис считает, что после исправлений Мелетия Сирига «схожесть Исповедания с современными ему латинскими катехизисами стала более внешней, состоящей преимущественно в форме, в методе, в расположении и разделении материала и в его изложении, и наименее всего в учении, так что в целом и по существу Исповедание получилось православным на деле, а не только в названии».
В каких же доктринальных заимствованиях у латинян уличает Кармирис Православное Исповедание? Это состояние Адама до грехопадения, происхождение человеческой души, «заповеди церковные», «пресуществление» и поклонение Святым Дарам, характер канонических наказаний и епитимий в Таинстве покаяния, поминовение усопших как помощь им, разделение священства на «духовное» и «таинственное». Кармирис считает, что и здесь мы имеем дело с внешним влиянием. Кармирис подчеркивает, что «во всех почти догматических различиях между Православной и Римской Церквами Исповедание Могилы хорошо излагает православное учение, отвергая соответствующее латинское», хотя и не в полемическом духе.
Попробуем разобраться в замечаниях греческого профессора. Прежде всего заметим, что отвержению подлежит не «латинское» как таковое, но неверное, по слову Апостола: «Все испытывайте, хорошего держитесь» (1Фес. 5:21). Теперь – по пунктам обвинения. «…» (Подробнее в статье: К оценке богословия святителя Петра Могилы, митрополита Киевского - протоиерей Валентин Асмус)
[31] Блаженной памяти иеромонах Серафим (Роуз):
Что касается «латинского (и/или протестантского) влияния»: неужели мы должны деканонизировать святителя Макария Коринфского за то, что он пользовался Катехизисом митрополита Платона? А как же преподобный Никодим, который переработал несколько латинских книг о духовной жизни и включил имя Блаженного Августина в свой Синаксарь?
Неужели Вы не видите, отче, что таким «ревнительством» Вы самого себя лишаете почвы под ногами, бросая тень сомнения буквально на всех отцов и святых последних столетий и заявляя всему миру, что Вы (и те, кто мыслит так же, как Вы) «лучше понимаете», чем эти святые мужи, многие из которых были великими богословами? Если рассуждать логически, то это как раз сближает Вас с протестантами: Вы утверждаете, что в православной традиции есть разрыв, через который удалось перебраться только вашей группе, перешагнув через период «латинского пленения» и обратившись к «оригинальным источникам».
Некоторое время назад Вы написали, что если Блаженный Августин и присутствует в русском календаре, то только в силу «униатского влияния» недавнего времени. Что же, мы провели исследование и обнаружили, что Блаженный Августин был внесен в Месяцеслов Русской Церкви исключительно благодаря авторитету преподобного Никодима Святогорца — из-за того, что Русская Церковь всеми силами стремилась пребывать в согласии с лучшей частью традиции Церкви Греческой. Что же в этом плохого?
Понимаете ли Вы, как далеко Вас могут завести широкие обобщения относительно «католического влияния» или «латинского пленения»? Само понятие «латинского пленения» используется Шмеманом и ему подобными именно для того, чтобы разрушить саму идею непрерывности православной традиции. Не попадайтесь в эту ловушку!» (Источник: Письмо 136. 19 авг. (1 сент.) 1973 г.; Имело ли место «латинское пленение» православной мысли? | Православный блог)
[32] Гипертрофированная концепция «западнаго пленения» православного богословия не подтверждается историческими фактами. Какому Западу, католическому или протестантскому, следовали Адам Зерникав или Феофан Прокопович, когда они составляли свои, самые пространные и самые содержательные в нашей литературе, трактаты о Filioque? Ведь они опровергали догмат, одинаково принятый и Римом, и [протестантской] Реформой. Неправильная исторически концепция «пленения» жестоко бьет по вероучительному авторитету Самой Церкви. Как может претендовать на обладание полнотой истины Церковь, которая могла долгие века якобы заблуждаться, идти на поводу у инославия в таких важнейших истинах веры, как Боговоплощение, Искупление или Евхаристия? Мы позволяем себе высокомерно судить наших богословов ХIХ века, не взяв на себя даже труда изучить их творения. Если бы мы рассмотрели вкупе и фундаментальные догматики, и журнальные статьи позапрошлого (XIX) века, мы увидели бы, что стоящий ныне перед нами вопрос рассмотрен там с гораздо большей основательностью, нежели в сегодняшней скороспелой полемике. (См. протоиерей Валентин Асмус - Евхаристия)
[33]Определение 15: «Мы веруем, что в Церкви есть Евангельские Таинства, и что их семь. Ни менее, ни более этого числа Таинств в Церкви мы не имеем, поскольку любое другое число Таинств, кроме семи, есть произведение еретического безумия. Седмеричное их [число] было установлено в Святом Евангелии и почерпнуто из него же, подобно другим догматам Кафолической Веры. Ибо, во-первых, Святое Крещение Господь наш установил словами: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:19); «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16). «…». (Исповедание православной веры Восточной Церкви, принятое Иерусалимским собором 1672 года)
«Таинств – семь: Крещение; Миропомазание; Причащение; Покаяние;
Священство; Брак; Елеосвящение». (Пространный христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви)
[34] Об этом есть в нашей статье: Монашеский постриг и Таинства Церкви, в подразделе: «Догмат о семи Таинствах»
[35] В двух сирийских рукописях (BL Add. 12,151, 804 г., эстрангела и BL Add. 12,152, 837 г.) сохранились фрагменты письма священномученика Дионисия Александрийского (III век) папе Сиксту Римскому с обсуждением Ареопагитик и их атрибуцией святому Дионисию, апостольскому мужу I века. В текстах преподобных Максима Исповедника и Анастасия Синаита используется фрагмент с толкованием святого Дионисия Александрийского на тексты священномученика Дионисия Ареопагита, так что в III век о сочинениях Дионисия Ареопагиты было известно даже на греческом языке.
В светской науке эти тексты священномученика Дионисия Александрийского не признаются подлинными в связи порочным кругом: одним из главных аргументов о неподлинности авторства святого Дионисия Ареопагита является мнение, что будто бы никто до VI века не знал о его творениях. Тогда как аутентичность текстов святого Дионисия Александрийского отвергается, так как он говорит об авторстве Дионисия Ареопагита, который якобы не мог быть автором, в том числе так как до VI века про него никто не знал. То есть ранняя ссылка на священномученика Дионисия Ареопагита считается подложной, так как до этого авторство святого Дионисия было отвергнуто, в том числе, на основании отсутствия более ранних ссылок. (Подробнее: Πανάριον. Ссылки на источники там же)
Также смотрите статью: С. Минков. Иерархия у Климента Александрийского в Ареопагитском корпусе: Aletheia | Православное богословие.
[36] Исповедание православной веры Восточной Церкви, принятое Иерусалимским собором 1672 года.
Святитель Нектарий в своих трудах весьма часто ссылается на этот принятый всей Церковью догматический документ, либо пересказывает его содержание своими словами без прямой ссылки. Например, здесь святитель цитирует 12 Определение этого документа:
«Мы веруем, что Святой Дух учит Кафолическую Церковь. Ибо Он есть тот истинный Утешитель, Которого Христос посылает от Отца для того (ср. Ин. 14:26), чтобы учить истине (ср. Ин. 16:13) и прогонять мрак от ума верных. Однако учение Святого Духа просвещает Церковь не напрямую, но через Святых Отцов и Предстоятелей (καθηγεμόνων) Кафолической Церкви. Все Писание есть и именуется Словом Святого Духа не потому, что Он непосредственно изрек его, но говорил в нем через Апостолов и Пророков. Так и Церковь поистине научается Животворящим Духом, но через посредство Святых Отцов и Учителей (которых правило [веры] признано Святыми и Вселенскими Соборами, чего мы не перестанем бесконечно повторять); почему мы не только убеждены, но и несомненно исповедуем, как твердую истину, что Кафолическая Церковь не может погрешать или вообще заблуждаться, или когда-либо избирать ложь вместо истины. Потому что Всесвятой Дух, всегда действующий через верно служащих Отцов и Предстоятелей Церкви, избавляет ее от всякого заблуждения». (Исповедание православной веры Восточной Церкви, принятое Иерусалимским собором 1672 года)
С историей общецерковной рецепции документа можете познакомиться в нашей статье: Кто сказал, что еретики и раскольники не могут спастись? Часть вторая
[37] Параклит (также Параклет) – (др.-греч. παράκλητος – призванный (на помощь), защитник, заступник; в новозаветном греческом присутствует в значении «утешитель»; лат. paracletus) – одно из наименований Святого Духа, Третьего Лица Святой Троицы, отмеченное в Евангелии. Само слово παράκλητος (параклитос) представляет собой сочетание «παρά» ((пара) рядом / вблизи) и «κλητός» (клитос), «призванный», «позванный»). (Параклит - православная энциклопедия «Азбука веры»)
[38] Из трудов святителя Нектария Эгинского
[39] Святитель Геннадий Схоларий о безошибочности Церкви:
«Неодолимость перед вратами ада — нечестием и ересями — Христос дает Церкви, а не Петру. Потому-то и мы невозможность в чем-либо ошибаться, как некий исключительный дар, ограничиваем одними Соборами, причем лишь теми, которые представляют всю Церковь. Ибо мы, убежденные множеством доводов и [исторических] примеров, утверждаем, что только Церковь стоит и будет стоять выше всякой лжи, и что Соборы ко всем их решениям привел Дух Святой, и совершенно ничто на них не совершалось человеческой волей. От неe зависело лишь то, чтобы возжелать истины и собраться вместе, следуя этому желанию.
Истиное же учение [участникам Соборов] приходило по вдохновению свыше, и потому все они, имея в своих сердцах Единого Учителя, приходили к единому суждению, словно некий священный хор, вторящий Корифею, который задаёт мелодию. Потому-то мы один чин и одно достоинство усваиваем этим Соборам и Священным Писаниям». (Источник: Gennadius Scholarius. De processione Spiritus Sancti 1.2.5 // OCGS. Vol. 2. P. 62)
[40] Святой канонист Никодим (Милаш): «Законы веры и нравственности безусловно обязательны для всех и каждого члена Церкви, где бы он ни был и когда бы ни жил. Законы веры основаны на Священном Писании и, как таковые, неизменяемы во все времена, а дерзнувший посягнуть на них, с того же момента перестает быть членом Церкви. Обязательность нравственных церковных законов вытекает из самой сущности этих законов. Все нравственные законы христианской Церкви вытекают из той заповеди вечной истины, в силу которой должно любить ближнего своего как самого себя, и не делать другому того, чего себе не желаешь. Если человек исполняет эту заповедь, он является христианином, если же нет, перестает быть таковым, а носить звание христианина и не исполнять предписаний христианской Церкви, значит противоречить самому себе и своему призванию. И церковная власть имеет право исключить из своего общества всякого, кто не желает исполнять церковных предписаний, или же подвергнуть упорного своему суду, пока не исправится». (священноисповедник Никодим (Милаш) – Православное церковное право)
[41] Митрополит Макарий (Булгаков): «Если Дух Святой учит кафолическую Церковь и предохраняет её от заблуждений не иначе, как через посредство вернослужащих Отцов и учителей (епископов и вообще пастырей): то единственный способ для выражения, в случае нужды, непогрешимого свидетельства Церкви касательно той или другой откровенной истины есть единодушное согласие, в рассуждении этой истины, всей Церкви учащей, за которым естественно должно уже последовать и согласие всех верующих. Для изъявления же такого согласия церкви учащей возможны два способа: предстоятели частных Церквей могут выражать его, нарочито собравшись для этого все воедино на Собор Вселенский, но могут выражать и не собираясь на Соборы, а посредством взаимных сношений, оставаясь каждый на своём месте, при обыкновенном положении Церкви (in status quo)». (митрополит Макарий (Булгаков) Введение в православное богословие)
[42] Священноисповедник Никодим (Милаш): Священноисповедник Никодим (Милаш): «Единство Церкви основывается на единстве веры. Если нет единства веры, если всеми и каждым не сохраняется в полной неповрежденности откровенное христианское учение, тогда нет и Церкви. Орган, посредством которого сохраняется единство Церкви, есть епископство (§ 51). Это епископство, которому Основатель Церкви передал свое учение для проповедования его и с которым обещал быть до скончания веков, имеет своею главною задачею хранить откровенное учение и непогрешимо свидетельствовать о его истинности. Исполнение этой задачи доверено каждому епископу, потому что «каждый епископ и все вместе имеют полную часть», «все они имеют одинаковую власть и достоинство», и «все в одинаковой степени наследники апостолов», а потому и исполняют свою задачу или сами, или чрез своих уполномоченных, священников, каждый во вверенной ему церкви. Но бывают случаи, когда должен проявляться и совместный голос всех епископов, именно когда возникают какие-нибудь споры о вере, охватывающие всю Вселенскую Церковь и угрожающие чистоте и неповрежденности откровенной истины. Тогда общий голос всех епископов выражается или во Вселенском соборе, или же, если по условиям времени невозможно созвать Собор, в догматических посланиях, излагающих истинное верование церкви, о котором письменно согласились все епископы.
«…» Установленные законною властью догматические определения безусловно обязательны для всех и каждого, принадлежащего к Церкви. Обязательная сила этих определений вытекает из самого содержания их, так как они не заключают в себе ничего нового, а лишь изъясняют преданное верование, почему и не могут зависеть ни от каких формальностей, которые должны соблюдаться при их обнародовании». (https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Milash/pravoslavnoe-tserkovnoe-pravo/3#sel=11:1,15:54) (священноисповедник Никодим (Милаш) – Православное церковное право).
[43] Причем священноисповедник Никодим (как и ряд других святых) отнюдь не ограничивают эти решения одной догматикой и нравственностью, но убежденно учит, что любые каноны, соборно принятые всей Церковью, также должны считаться голосом Духа:
«На основании божественного полномочия и согласно задаче самой Церкви, законодательная власть (Прим. – речь идет о канонах Церкви) ее развивается в точно определенном направлении. Представители церковной законодательной власти, издавая законы, действуют в этом случае не от своего имени, проявляя свою личную власть, а от имени Духа Божия, живущего в Церкви, по отношению к которому они служат лишь орудиями исполнения на земле воли Его.По обетованию Основателя Церкви, что Он всегда пребудет со своими апостолами и их преемниками, апостолы, а равно и их преемники, не издавали и не издают в настоящее время законов для Церкви от себя и от своего имени, а от имени Духа Святого, действующего через них. «Изволися Духу Святому и нам», говорят апостолы, делая постановление, что для христиан не имеет значения ветхозаветный обрядовый закон. Подобно этому выражаются и отцы Церкви всякий раз, когда они издавали законы, которые должны были иметь обязательное значение в Церкви.
Но для того, чтобы в законодательной власти Церкви существенно были выражены воля и сила Духа Святого, должны быть соблюдены два основных условия, а именно, первое: чтобы законодательная власть действовала голосом целой Церкви, как тела, оживляемого Духом Святым; второе: чтобы представителями этой власти были лица, имеющие
Таинство Священства, с которым соединена особенная благодать Божия. Соблюдение этих условий необходимо ради самого значения церковных законов; и церковные законодатели дают им выражение в своих постановлениях, упоминая в последних Духа Святого, во имя Которого и совершается законодательная деятельность в Церкви. (священноисповедник Никодим (Милаш) – Православное церковное право)
[44] Ряд святых всё же верили, что по дерзновенным молитвам святых иногда возможны редкие исключения из этого конкретного правила. Причем сами эти святые, вслед за Церковью, твердо учили о невозможности спасения вне Православной Церкви (святители Марк Эфесский, Геннадий Схоларий и Димитрий Ростовский), либо не высказывались противоположно этому учению (ряд других святых из статьи; неоднозначные места есть в трудах святителя Филарета (Московского). Впрочем, в некоторых цитатах (кроме трех святителей: Марка, Геннадия и Димитрия) говорится об избавлении от мучений, что, возможно, не подразумевает непременного вхождения в Царство Небесное. Догматическое учение Церкви заключается в том, что вне истинной Церкви Христовой спасения нет. Ошибались ли эти святые или нет (насчет исключений) – то ведает Бог. В любом случае, исключения не отменяют общего правила-способа спасения, данного Богом людям через Церковь. В любом случае, смиренные молитвы по чину Православной Церкви за наших близких, умерших вне Церкви не будут для них «бесполезны».
[45] Цитат довольно много, поэтому на часть из них мы просто дадим точные ссылки (пройдите по ним и увидите выделенную цитату):
«Тот не может уже иметь Отцом Бога, кто не имеет матерью Церковь. Находящийся вне Церкви мог бы спастись только в том случае, если бы спасся кто-либо из находившихся вне ковчега Ноева». (священномученик Киприан Карфагенский – «О единстве Церкви»)
Святитель Иоанн Златоуст – «Семь слов о Лазаре»:
«Этот великий и безопасный корабль прообразован Ноевым ковчегом, по общему учению Святых Отцов и учителей. Как святой Ной со всем своим домом в ковчеге спасся от всемирного потопа, а все, вне ковчега бывшие, погибли, так и ныне от потопа греховного гнева Божиего и вечного осуждения спасаются только те, которые в Церкви Святой находятся, и истинными сынами ее пребывают. Прочие же все, вне пребывающие, погибают и потопляются в потопе адской бездны» (Святитель Тихон Задонский. Об истинном христианстве Книга 2)
Святитель Феофан Затворник: «Ясно после этого, как день, что у них нет истины, нет последования Христу, нет Церкви – значит, нет и спасения, ибо спасение только в Церкви, как в Ноевом ковчеге. Церковь Христова имеет священство; у раскольников нет священства, стало быть, нет и Церкви». (святитель Феофан Затворник – «Созерцание и размышление»)
Также и в Катехизисе: 270. Обязательна ли для спасения принадлежность к Кафолической Церкви?
Кафолическая Церковь заключает в себе всех истинно верующих в мире. Поскольку Господь Иисус Христос, по изречению апостола Павла, есть «глава Церкви, и Он же спаситель тела» (Еф. 5:23) то, чтобы быть спасённым, необходимо быть частью Его тела, то есть членом Кафолической Церкви. Апостол Петр пишет, что Крещение спасает нас по образу Ноева ковчега. Все, спасшиеся от всемирного потопа, спаслись единственно в Ноевом ковчеге: так все, получающие вечное спасение, получают его только в Кафолической Церкви.
Святитель Серафим Соболев – Проповеди.
Святитель Игнатий Брянчанинов – «Аскетические опыты».
Святой праведный Иоанн Кронштадский – «Моя жизнь во Христе»
[46] В Деяниях апостольских святой евнух при чтении пророка Исаии на вопрос Филиппа: «Разумеешь ли, что читаешь?» – отвечал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» (Деян. 8: 30–31).
«Извращающие Божественные изречения и толкующие их ложно по собственному своему изволению погрешают неизвинительно. Ибо они не будут иметь оправдания, представляющего в предлог обольщение и заблуждение, потому что пали по злонамеренности, а не по простоте, и не укроются от спокойного и кроткого Ока, вопреки которому осмелились учить, обезумев от порока». (Письма. Книга II - преподобный Исидор Пелусиот ; 44. Диакону Исидору)
«Но может быть спросит кто-нибудь, если Писанное слово Божие свято, всесовершенно и всегда вполне вразумительно при снесении одних мест его с другими, то какая же надобность присоединять к нему еще авторитет церковного его разумения? – Та надобность, что Священное Писание, по самой его возвышенности, не все понимают в одном и том же смысле, но один толкует его изречения так, другой иначе, так что почти сколько голов, столько же, по-видимому, можно извлечь из него и смыслов. По-своему объясняет его Новациан, по-своему Савеллий, по-своему Донат, Арий, Евномий, Македоний, по-своему Фотин, Аполлинарий, Прискиллиан, Иовиниан, Пелагий, Целестий, по-своему, наконец, Несторий. А потому-то и совершенно необходимо, при таком множестве бесчисленно разнообразных изворотов заблуждения, направлять нить толкования пророческих и апостольских Писаний по норме церковного и вселенского их понимания». (О вероизложениях вообще, или об общем характере православной догматики - преподобный Викентий Леринский )
«Оставьте человека с Писанием одного, – и Писание потеряет всякий определенный смысл и значение. Останется собственно только один человек, который капризы и причуды своего ума будет прикрывать авторитетом Слова Божия. Без Церкви и вне Церкви, хотя бы человек и имел в руках книгу Священного Писания, для него неизбежно состояние безнадежного блуждания. «…» Становится вполне понятным грозное слово Поликарпа Смирнского, – ученика апостола любви – который в своем послании к Филиппийцам первенцем сатаны называет того, кто будет толковать слова Господни по собственным похотям (гл. 7). Мало того. Предоставленный в отношении Священного Писания самому себе рассудок может идти и дальше в деле насилия над Писанием, оправдывая мудрые слова Климента Александрийского: «Люди, предавшиеся страстям, насилуют и Писание сообразно со своими пожеланиями». А новозаветные книги Священного Писания для всевозможного насилия над ними дают самый широкий простор, – потому именно, что Христос ничего Сам не писал. (Священное Писание и Церковь - священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский )
[47] Из трудов святителя Нектария Эгинского.
[48]Невидимая или мистическая церковь — это христианское богословское понятие о «невидимой» христианской церкви избранных, известных только Богу, в отличие от «видимой церкви» — то есть институциональной организации на земле, которая проповедует Евангелие и совершает Таинства. Каждый член невидимой церкви спасён, в то время как видимая церковь включает в себя всех спасённых, но также и тех, кто не спасён. Согласно этой точке зрения, в таких библейских отрывках, как от Мф. 7:21–27; 13:24–30; 24:29–51 - говорится об этом различии
(Источник: Church invisible - Wikipedia).
Распространённой является схема, предполагающая расширение границ Церкви с включением членов всех или почти всех сообществ, называющих себя «христианскими церквами». Все варианты её заимствованы из протестантской мысли, начиная от «теории ветвей», которая предполагает, что «земные перегородки не доходят до неба» и Церковь Христова включает в себя все сообщества, называющие себя церквами как ветви единого древа, и заканчивая теорией «невидимой Церкви», которая будто бы может объединять не сами деноминации, но отдельных, выдающихся по своим личным качествам людей из разных конфессий и деноминаций, при том, что сами эти люди даже не подозревают, что «мистически» являются членами Православной Церкви.
Появление таких идей неудивительно для протестантской среды, где учение о Церкви полностью разрушено, но странно встречать его среди людей, считающих себя православными, потому как святоотеческая экклезиология не оставляет никакого места для подобных мечтаний.
В Символе Веры мы исповедуем «Единую Церковь». Чем же именно едина Церковь Христова? Единством истины, единством любви и единством Таинств, главнейшее из которых – Евхаристия. Причащаясь единого Тела и Крови Христовой, христиане мистически соединяются со Христом и друг с другом, становятся частью единого Тела Христова, «которое и есть Церковь» (Кол.1:24). «Так мы, многие, составляем одно тело во Христе» (Рим.12:5). (Без Христа спасенья нет, Вне Церкви нет спасения - священник Георгий Максимов, 6.1. «Теория ветвей» и теория «невидимой Церкви»)
[49] Святитель Нектарий почил о Господе в ноябре 1920 года, и именно в этом году, начинается активное участие представителей Православной Церкви в экуменическом движении.
Экуменизм как явление и как целостное движение формируется и возникает в протестантской среде. Это происходит в достаточно короткие сроки. «…» В процессе формирования экуменического движения особняком стоит участие Константинопольской Православной Церкви, которое требует особого внимания. Так, Окружное послание Синода Константинопольской Церкви (янв. 1920 год) содержит призыв к «созданию Лиги Церквей, задачей которой было бы сближение Церквей и конфессий всего мира через контакты, сотрудничество и взаимную солидарность с конечной целью – осуществить их единство» (см.: [33, с. 382; 29]). Именно в 1920-е годы, с участия представителей Константинопольского Патриархата в конференции «Вера и церковное устройство» в Женеве, начинается участие Православной Церкви в экуменическом процессе. (Экуменизм как явление современности - М.В. Легеев, иером. Мефодий (Зинковский), иером. Кирилл (Зинковский), )
В «Окружном послании...» митрополит Прусский Дорофей [местоблюститель Константинопольского патриаршего престола] призвал всех христиан к сближению, преодолению взаимного недоверия, отказу от прозелитизма, к взаимопониманию и взаимопомощи. Предлагалось принять единый унифицированный календарь, установить регулярный братский обмен письмами по великим праздникам и др. исключительным поводам, развивать академический обмен и контакты на уровне богословских школ, проводить всехристианские конгрессы и т. п. При митрополите Дорофее Константинопольская Церковь принимала участие в целом ряде экуменических встреч и конференций. В феврале 1921 года митрополит Дорофей прибыл в Великобританию на Лондонскую конференцию и скоропостижно скончался 6 марта. (КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ)
Таким образом, православное учение святителя Нектария о Церкви можно счесть предостережением будущему поколению православных богословов от уклонения в протестантские лжеучения, которые, к сожалению, очень тесно связаны с экуменическим движением.
[50] См: Надо ли Русской Православной Церкви участвовать в экуменическом движении? - святитель Серафим (Соболев) ; Две крайности: экуменизм и зилотство - архимандрит Епифаний (Феодоропулос)
[51] Учение Церкви:
250. Что такое Церковь?Церковь есть Богом установленное общество людей, соединённых православной верой, законом Божиим, священноначалием и Таинствами.
251. Что значит верить в Церковь?Верить в Церковь – значит благоговейно чтить истинную Церковь Христову и повиноваться её учению и заповедям с уверенностью, что в ней присутствует, спасительно действует, учит и управляет благодать, исходящая от единой вечной главы её, Господа Иисуса Христа.
252. Каким образом Церковь может быть предметом веры? Видимая Церковь является предметом веры, в то время как вера есть уверенность в невидимом потому, что в видимой Церкви невидимо присутствует воспринятая ею и освящёнными в ней людьми благодать Божия, которая и является непосредственным объектом веры; видимая Церковь, к которой принадлежат все живущие на земле православные христиане, в то же время и невидима, поскольку она есть и на небесах и к ней принадлежат все скончавшиеся в истинной вере и святости.
259. Как единственность Церкви соотносится с наличием многих поместных православных Церквей? «…» Самостоятельность видимого устройства не препятствует им [Поместным Церквям] духовно быть великими членами единственного тела Церкви вселенской, иметь одну главу – Христа и общий дух веры и благодати. Это единство, видимо, выражается одинаковым исповеданием веры и общением в молитвах и Таинствах.
269. Какое важное преимущество имеет Церковь?Важное преимущество Кафолической Церкви состоит в том, что ей, собственно, принадлежат высокие обетования (обещания), что «врата ада не одолеют её», что Господь «пребудет» с ней «до скончания века», что в ней пребудет «слава» Божия о «Христе Иисусе во все роды века»; что, следовательно, она никогда не может ни отпасть от веры, ни погрешить в истине веры или впасть в заблуждение. «Несомненно исповедуем, как твёрдую истину, что Кафолическая Церковь не может погрешать или заблуждаться, и говорить ложь вместо истины; поскольку Святой Дух, всегда действующий через верно служащих отцов и учителей Церкви, хранит её от всякого заблуждения» (Послание Восточных Патриархов о православной вере, чл. 12).
270. Обязательна ли для спасения принадлежность к Кафолической Церкви?Кафолическая Церковь заключает в себе всех истинно верующих в мире. Поскольку Господь Иисус Христос, по изречению апостола Павла, есть «глава Церкви, и Он же спаситель тела» (Еф. 5:23) то, чтобы быть спасённым, необходимо быть частью Его тела, то есть членом Кафолической Церкви. Апостол Петр пишет, что Крещение спасает нас по образу Ноева ковчега. Все, спасшиеся от всемирного потопа, спаслись единственно в Ноевом ковчеге: так все, получающие вечное спасение, получают его только в Кафолической Церкви. (Пространный христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви - святитель Филарет Московский (Дроздов)
Катехизис вот уже 200 лет имеет статус официального вероучительного документа, неоднократно утверждён Святейшим Синодом как Символическая книга и обязателен для принятия всеми верными чадами Русской Православной Церкви.
[52] Подобного мнения об освящающей благодати придерживался наш отечественный святител новейшего времени – Серафим Соболев (1881–1950☦), немало потрудившегося для защиты Православия:
«Нельзя говорить, что у католиков нет благодати. У них есть благодать, в силу непрерывной преемственности законной иерархии, ведущей свое начало от самого Апостола Петра. Но эта благодать у католиков не действенна. Она, если только можно так выразиться, связана католическими ересями и потому не спасает. Что же касается до протестантов, то их даже и сравнить нельзя с православными в отношении к новозаветной благодати, ибо у них нет сей внутренней перерождающей благодати. Нет ее потому, что она во всех дарах Божественного Духа подается верующим в Таинстве Миропомазания. А сего Таинства нет у протестантов. Кроме того, нет у них и Таинства священства.
Следовательно, нет иерархии, через которую изливалась бы сия благодать». (Источник: Святитель Серафим Соболев. Проповеди.)
«В Крещении, как это явствует из «Православного исповедания [катехизис святителя Петра Могилы]», мы только очищаемся от грехов, умираем для жизни плотской и возрождаемся от Святаго Духа для жизни новой и святой. Но последняя возможна для нас только при помощи той благодати, которую мы получаем в Таинстве Миропомазания. В этом Таинстве преподается нам Дух Святый со всеми Его дарами, возращающими и укрепляющими нас в духовной святой жизни». (Святитель Серафим Соболев. Надо ли Русской Православной Церкви участвовать в экуменическом движении)
[53] Из документа, принятого Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию»:
2.3. …признавая необходимость восстановления нарушенного христианского единства, Православная Церковь утверждает, что подлинное единство возможно лишь в лоне Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Все иные «модели» единства представляются неприемлемыми.
2.4. Православная Церковь не может принять тезис о том, что, несмотря на исторические разделения, принципиальное, глубинное единство христиан якобы нарушено не было и что Церковь должна пониматься совпадающей со всем «христианским миром», что христианское единство якобы существует поверх деноминационных барьеров и что разделенность церквей принадлежит исключительно к несовершенному уровню человеческих отношений. По этой концепции, Церковь остается единой, но это единство недостаточно проявляется в зримых формах. В такой модели единства задача христиан понимается не как восстановление утраченного единства, а как выявление единства, неотъемлемо существующего. В этой модели повторяется возникшее в Реформации учение о «невидимой церкви».
2.5. Совершенно неприемлема и связанная с вышеизложенной концепцией так называемая «теория ветвей», утверждающая нормальность и даже провиденциальность существования христианства в виде отдельных «ветвей».
2.6. Для Православия неприемлемо утверждение о том, что христианские разделения являются неизбежным несовершенством христианской истории, что они существуют лишь на исторической поверхности и могут быть исцелены или преодолены при помощи компромиссных межденоминационных соглашений.
2.7. Православная Церковь не может признавать «равенство деноминаций». Отпавшие от Церкви не могут быть воссоединены с ней в том состоянии, в каком находятся ныне, имеющиеся догматические расхождения должны быть преодолены, а не просто обойдены. Это означает, что путем к единству является путь покаяния, обращения и обновления.
2.8. Неприемлема мысль о том, что все разделения суть трагические недоразумения, что несогласия кажутся непримиримыми только от недостатка любви друг к другу, от нежелания понять, что при всем различии и несходстве есть достаточное единство и согласие в «главном». Разделения не могут быть сведены к человеческим страстям, эгоизму или тем более культурным, социальным или политическим обстоятельствам. Также неприемлемо утверждение, что Православную Церковь отличают от христианских сообществ, с которыми она не имеет общения, вопросы второстепенного характера. Нельзя сводить все разделения и разногласия к различным небогословским факторам. (Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию)
[54] В этом же документе утверждается, что вне Православной Церкви нет спасения:
1.1. Православная Церковь есть истинная Церковь Христова, созданная Самим Господом и Спасителем нашим, Церковь, утвержденная и исполняемая Духом Святым, Церковь, о которой Сам Спаситель сказал: «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Она есть Единая, Святая, Соборная (Кафолическая) и Апостольская Церковь, хранительница и подательница Святых Таинств во всем мире, «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15). «…»
1.2. Церковь Христова едина и единственна (св.Киприан Карфагенский. «О единстве Церкви»). Основанием единства Церкви ― Тела Христова ― является то, что у нее один Глава ― Господь Иисус Христос (Еф. 5:23) и действует один Дух Святой, животворящий Тело Церкви и соединяющий всех ее членов со Христом как с ее Главой.
1.15. Православная Церковь устами святых отцов утверждает, что спасение может быть обретено лишь в Церкви Христовой. «…» (Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию / Официальные документы / Патриархия.ru)
[55]Теория ветвей представляет собой базовый вариант экклезиологии экуменического движения. Согласно этой концепции, изображающей Церковь Христову древом, а христианские конфессии – его ветвями. Экуменическая задача конфессий – осознать, что при всех своих «внешних», «земных», «человеческих» различиях и несовершенствах все они фактически уже составляют вместе одно древо и Тело Единой Церкви. Это осознание и должно, по мысли представителей данной концепции, привести к видимому сближению конфессий друг с другом – сближению того, что невидимым и истинным образом уже и так близко и нераздельно пребыванием во едином Христе. Осознание невидимой реальности «единой церкви» призвано разрушить «земные перегородки, не доходящие до неба». Согласно теории ветвей, межконфессиональные различия не являются преградами, разрушающими Церковь, но свидетельствуют лишь о внешнем многообразии ее форм, равно как и о закономерных человеческих недостатках церковных членов. (Экуменизм как явление современности - М.В. Легеев, иером. Мефодий (Зинковский), иером. Кирилл (Зинковский))
[56] «Понятие об Искуплении тесно сопряжено с понятием спасения (σωτηρία). Часто эти слова в церковных текстах употребляются как синонимы, однако в их содержании есть различие. «Спасение» – более емкое понятие, включающее в себя как объективную, так и субъективную сторону. Объективный аспект спасения людей, совершенного Христом, — это Искупление. В этом плане спасение уже произошло, о нем говорится в прошедшем времени: «Ибо благодатью вы спасены (σεσωσμένοι) через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2:8). Субъективный аспект спасения подразумевает личное усвоение плодов искупительного подвига Христа человеком». (Протоиерей Вадим Леонов – Искупление, статья в Православной Энциклопедии)
[57] Пространный Катехизис:
«208. Каким образом мы участвуем в страданиях и смерти Иисуса Христа?
Мы участвуем в страданиях и смерти Иисуса Христа посредством живой сердечной веры, посредством Таинств, в которых скрыта и присутствует сила спасительных страданий и смерти Иисуса Христа, и, наконец, посредством распинания своей плоти с её страстями и похотями. «Законом я умер для закона – говорит апостол, – чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19–20). «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» (Рим. 6:3). «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11:6).«Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:24)».
«И мы были оправданы, освободившись прежде всего от уз и наказания, когда не сотворивший неправды защитил нас Cмертью Крестной, в которой понес наказание за то, что сделали мы дерзостного; потом чрез оную же смерть сделались мы и друзьями Божиими и праведными. Ибо Спаситель Своею смертью не только освободил нас и примирил Отцу, но и дал нам область чадом Божиим быти, с Собою соединив естество наше посредством плоти, которую восприял, каждого из нас соединяя со Своею плотью силою Таинств» (Святитель Николай (Кавасила). Семь слов о жизни во Христе, Слово1)
[58] «Мы видели, что крещенская возрождающая благодать в ее дивных проявлениях присуща только Православной Церкви. Поэтому сия благодать или, что то же, Царство Божие есть главнейший существенный признак, которым отличаются православные христиане от язычников и иудеев, так как у них нет сей благодати. Хотя последняя и сообщается в католичестве, тем не менее и здесь нет Царства Божиего в проявлениях благодати Святого Духа, так как сия благодать не спасительна здесь, то есть не может обнаруживаться в своих проявлениях, вследствие присущих католичеству ересей. И это понятно, ибо Апостол Павел сказал: «Аще мы или Ангел с небесе благовестит вам паче, еже благовестихом вам, анафема дa будет» (Гал.1:8). В виду этого, хотя по апостольскому преемству внутренняя возрождающая благодать и сообщается в католичестве чрез Таинства Крещения и Миропомазания, но, в силу указанных слов Апостола Павла, она здесь не действует, и принявшие эту благодать отлучаются от нее, точнее, от ее спасительного действия. Благодать сия, хотя и остается в католичестве, в силу того, что Божественные дарования нераскаянны, то есть непреложны, но она уже не действенна и не спасительна. (Искажение православной истины в русской богословской мысли - святитель Серафим (Соболев) )
[59] То же вероучительное положение утверждается в официальном документе 2005 года, выработанном на совместных заседаниях Комиссии Московского Патриархата по диалогу с Русской Зарубежной Церковью и Комиссии Русской Зарубежной Церкви по переговорам с Московским Патриархатом:
Русская Православная Церковь строго придерживается изложенного в Символе веры учения, что Церковь Христова едина.
Как Тело Христово и единственный ковчег спасения, как столп и утверждение истины, Церковь никогда не разделялась и не исчезала, но всегда на протяжении всей истории христианства преподавала чистое учение Евангелия в изобилии благодатных даров Святого Духа.
Имея повеление от Самого Господа Иисуса Христа, Церковь призвана осуществлять свою апостольскую миссию «проповедовать Евангелие всей твари» (Мк. 16:15). Поэтому на протяжении своей тысячелетней истории Русская Церковь просвещала светом Христовой правды как те народы, среди которых она находилась, так и народы окрестных стран. Одновременно она стремилась к возвращению в спасительное лоно Церкви отделившихся христиан других исповеданий и с этой целью еще в XIX веке создавала особые комиссии для диалога с ними, принимая при этом во внимание различие в степени их удаленности от веры и практики Древней Церкви. «…»
Тем не менее, значительная часть протестантского мира в ходе своего развития пошла по пути гуманистического либерализма и все более утрачивала связь с Преданием Святой Церкви, видоизменяя богоустановленные нормы нравственности и догматического учения.
Православные христиане настаивают на своем праве свободно исповедовать веру в Православную Церковь как Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь без каких-либо уступок так называемой «теории ветвей» и решительно отвергают всякие попытки размывания православной экклезиологии.
Православная Церковь исключает всякую возможность литургического общения с неправославными. В частности, представляется недопустимым участие православных в литургических действиях, связанных с так называемыми экуменическими или межконфессиональными богослужениями. В целом же формы взаимодействия с инославием Церковь должна определять на соборной основе, исходя из своего вероучения, канонической дисциплины и церковной целесообразности.
«…» Кроме того, диалог с инославными остается необходимым для свидетельства им о Православии, для преодоления предрассудков и опровержения ложных мнений. При этом не следует сглаживать и затуманивать реально существующих различий между Православием и иными вероисповеданиями. (Об отношении Православной Церкви к инославным вероисповеданиям и межконфессиональным организациям / Официальные документы / Патриархия.ru:)
[60] Святитель Феофан Затворник: «…кто бы что ни испытывал духовно и на какой бы степени ни стоял, никто не освобождается от того правила, как определять, истинно ли что или ложно. Определение истины одно – учение Церкви. Кто, помимо учения Церкви, захочет основываться в познании истины на своих чувствах и опытах духовных, тот вступает на широкую дорогу самопрельщения и всяких уклонений от истины. Даже если б видение кто какое видел или глас какой слышал, но, коль скоро возвещаемое сим путем несогласно с учением Церкви... надо решительно отвергать то, следуя слову Апостола: "аще Ангел с неба благовестит иное... то и ему анафема" (Гал. 1:8). Ибо то очевидно, что сей ангел – не с неба».
(См. святитель Феофан Затворник – рукописи из келии)
[61] Мы веруем, что Святой Дух учит Кафолическую Церковь. Ибо Он есть тот истинный Утешитель, Которого Христос посылает от Отца для того (ср. Ин. 14:26), чтобы учить истине (ср. Ин. 16:13) и прогонять мрак от ума верных. Однако учение Святого Духа просвещает Церковь не напрямую, но через Святых Отцов и Предстоятелей (καθηγεμόνων) Кафолической Церкви. Все Писание есть и именуется Словом Святого Духа не потому, что Он непосредственно изрек его, но говорил в нем через Апостолов и Пророков. Так и Церковь поистине научается Животворящим Духом, но через посредство Святых Отцов и Учителей (которых правило [веры] признано Святыми и Вселенскими Соборами, чего мы не перестанем бесконечно повторять); почему мы не только убеждены, но и несомненно исповедуем, как твердую истину, что Кафолическая Церковь не может погрешать или вообще заблуждаться, или когда-либо избирать ложь вместо истины. Потому что Всесвятой Дух, всегда действующий через верно служащих Отцов и Предстоятелей Церкви, избавляет ее от всякого заблуждения. (Определение 12) (Исповедание православной веры Восточной Церкви, принятое Иерусалимским собором 1672 года )
[62] Преподобный Амвросий Оптинский о важности догматов для христианской жизни. Примечательно, что святой Амвросий Оптинский в своих письмах советует в качестве источника для точного познания Православной веры, Катехизис святителя Филарета и принятый всей Церковью Катехизис святителя Петра Могилы «Православное Исповедание»: «Чтобы не потерять твердое Православие, возьмите в руководство себе и детям своим книгу «Православное Исповедание» Петра Могилы. Рассмотрите её со вниманием и со тщанием и написанное там содержите в памяти твердо, чтобы и самим хорошо знать дело своего спасения, и знать, что нужно сказать и указать детям в приличное время». ((Преподобный Амвросий Оптинский – переписка с мирскими лицами))
В одном из писем святой Амвросий противопоставляет Православное Исповедание сухому изложению Катехизиса, поскольку первое не только дает верное понятие о догматах, но и «действует на сердце», подобно святоотеческим трудам: «Вы боитесь, что сухость Катехизиса не прибавит ему теплоты. Катехизис никому не прибавляет теплоты, а довольно того, чтобы дети имели правильные понятия о догматах и других предметах Православной Церкви. Если желаете, чтобы православное учение действовало и на сердце сына вашего, то читайте с ним «Православное Исповедание» и «Училище Благочестия»*, а законоучитель пусть обучает его по Катехизису, принятому в учебных заведениях. Преподобный Амвросий Оптинский – переписка с мирскими лицами
* «Училище благочестия или примеры христианских добродетелей: избранное из жития святых», протоиерей Г. Мансветов (1777-1832 годы).
[63] Ряд святых, начиная с XIX века, иногда отвечали уклончиво или неопределенно на вопросы о посмертной участи иноверцев и инославных христиан. На наш взгляд, такой ответ – не знаю (и подобное), следует счесть допустимыми. Особенно когда кто-то, настойчиво, пытается принудить нас судить о посмертной участи конкретных умерших людей.
Так, преподобный Варсонофий (Оптинский) многократно в своих письмах и беседах учил, что вне Православия никто не может спастись, но своим чадам во время одной из бесед советовал следующее: «В настоящее время мало исповедников; многие, очень многие отпали от Христа, часто раздаются такие голоса: не все ли равно, как веровать, все спасутся – и магометане, и жиды, и язычники. Если спросят об этом вас, ответьте: «Спасутся ли они – не знаю, знаю только, что в Царствие Небесное вводит Господь и Спас наш Иисус Христос и Святая Православная Церковь. Те же, которые не войдут в Царствие, отосланы будут в ад на вечные муки».(Преподобный Варсонофий Оптинский – Духовное наследие).

Неусыпаемая Псалтирь – особый род молитвы. Неусыпаемой она называется так потому, что чтение происходит круглосуточно, без перерывов. Так молятся только в монастырях.
Видео 608806
