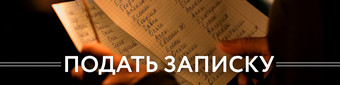

В поисках пути
Во время обучения в институте сессии, экзамены, стройотряды, вечеринки, вообще вся студенческая жизнь постоянно отвлекали от главного, единого на потребу (ср. Лк.: 10,42). Но, тем не менее, стремление к духовной жизни оставалось...
Большое впечатление произвела на меня тогда книга «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу», которую прочёл в самиздате. Повторюсь, большую часть духовных книг можно было достать только в таком виде: распечатанными кем-то на пишущей машинке или в виде фотокопий.

И вот эти «Рассказы странника», описание пути аскетического, духовного, и особенно делание Иисусовой молитвы, произвели на меня очень сильное впечатление. Это был именно тот путь, о котором я уже не раз думал, который представлял для себя, к которому уже тогда стремился.
***
Об архитектуре я уже не помышлял. Поэтому сразу после получения диплома начал искать такую работу, такой род занятий, который давал бы возможность уединения, духовного самообразования и молитвы – подальше от города, желательно в горах.
И когда через знакомых узнал, что в верховьях одной горной речки требуется работник на метеостанцию, не раздумывая, поспешил туда устроиться.
На этой станции я провёл две или три зимовки, точно не помню. В наши обязанности входило регулярно снимать метеоданные и дважды в день передавать их вниз по рации. По штату там полагалось три человека, но зачастую подолгу мы жили вдвоём.
Несмотря на то, что станция наша располагалась недалеко от Душанбе, зимой добраться к нам было непросто, продукты и другие необходимые грузы завозились заранее на вьючных лошадях и ишаках. Позднее, уже при мне, построили вертолётную площадку...
Из воспоминаний монаха Симеона Афонского: [1]
В приведённом ниже фрагменте автобиографической книги «Птицы небесные или странствия души в объятиях Бога» отец Симеон рассказывает о своём знакомстве в начале 80-х годов прошлого века с будущим епископом Панкратием, тогда ещё молодым человеком Виктором (имена в книге изменены автором. – прим. ред.).
«... Через неделю приехал Пётр и рассказал, что его знакомые устроились работать на горную гидрометеостанцию, почти рядом с Душанбе, чтобы там молиться в уединении.
— Вот как? А я там работал одно время… — удивился я.
Он обрадовался:
— Так ты знаешь дорогу на эту станцию? Давай сходим вместе к ним в гости!
Мы договорились утром выйти в путь, и здесь я совершил ошибку, чуть не стоившую нам жизни. Предположив, что в этом ущелье ещё не выпал снег, я одел лёгкие горные ботинки, а не сапоги. То же самое сделал и мой товарищ.
На автобусе, а затем на попутной машине, мы добрались до устья нашей реки, где тропу уже слегка припорошил снег. Это не показалось мне опасным, и мы бодрым шагом начали подъём по горной тропе.
Длинный затяжной подъём к метеостанции длиной в семь километров обычно можно пройти за час или полтора, если не спешить. Но в этот раз всё случилось иначе и не так, как мы предполагали.
***
Вода от мокрого таявшего снега начала хлюпать в ботинках. Идти становилось всё труднее, потому что толщина снега неумолимо увеличивалась. Солнце быстро зашло за горы и повеяло холодом.
Потянул лёгкий мороз и мокрые ноги начали мёрзнуть. Силы постепенно оставляли нас, и каждая нога казалась такой тяжёлой, как будто на них висели многопудовые гири.
— Знаешь, а дело наше не очень хорошее… — сведёнными от холода губами осторожно сказал я моему усталому спутнику.
Тот ещё не видел опасности, хотя, как и я, устал очень сильно.
Уже долгое время мы поочередно прокладывали тропу в глубоком снегу — один прокладывал дорогу, а другой шёл позади. Пока солнце не зашло, мне ещё как-то удавалось угадывать тропу, полностью заваленную глубоким, по пояс, снегом.
Но вот из-за горных хребтов вышла луна и снежная пелена наполнилась зыбкими мерцающими искрами. Тропы не стало видно, и мы начали проваливаться в глубокие ямы между камнями, иногда утопая по шею в снегу.
Всё это отнимало последние силы. Стоять было нельзя — мороз сразу сковывал всё тело, одежда покрылась мерзлой коркой льда, а идти было невозможно — силы нас полностью оставили.
Так мы некоторое время стояли, увязнув по пояс в снегу. Ноги и руки давно потеряли чувствительность и не ощущали мороза.
Мой смелый друг не поддался панике:
— Слушай, Фёдор, давай молиться, Бог поможет! Нужно идти…
Мы начали молиться. На каждый трудный шаг мы говорили: «Господи…помилуй…» — и действительно, сил и отчаянной решимости значительно прибавилось.
Растаскивая по очереди снег всем телом (а его уже было по грудь), Пётр и я неведомо как добрались до последнего подъёма, откуда через заснеженную поляну был виден домик метеостанции. В маленьком окошке приветливо горел свет.
Мы попробовали кричать хриплыми голосами, но нас никто не слышал, а наши голоса были слишком слабы.
Из последних сил, на дрожащих ногах, мы добрались до освещённого окна. Один парень с небольшой бородкой печатал что-то на пишущей машинке, другой стоял к окну спиной, подкладывая в печь дрова.
Было около десяти часов вечера, когда я стукнул в окно. Крепыш, сидевший у машинки перестал печатать и замер, глядя недоуменно в темноту, а другой обернулся и начал прислушиваться.
Тут мы с Петром не выдержали и заколотили в дверь обмёрзшими руками. Ребята распахнули дверь, втащили нас в дом и помогли стащить стоявшую коробом мёрзлую одежду.
Они налили в таз холодной воды, и мы опустили в воду руки, пока они не обрели чувствительность, а затем отогрели ноги. В руках и ногах появились сильные боли. Серьёзных обморожений вроде не было, но сильные боли долго не отпускали нас.
Мы с трудом переоделись и только потом, за горячим чаем, обрели способность говорить.
Из беседы с сотрудниками выяснилось, что на гидрометеостанцию эти люди устроились недавно.
Тот, кто печатал на машинке, был инженер, переехавший в Душанбе из Киева, возрастом чуть постарше меня, а который топил печь — архитектор, закончивший в Душанбе политехнический институт, моложе меня лет на шесть. Они стали на долгие годы моими лучшими друзьями, и с ними я прошёл первые уроки и экзамены настоящей дружбы, которая принесла много радостей и немало испытаний нашей стойкости и решимости.
Это были верующие молодые люди, только начавшие искать свой путь к вере и молитве и пытающиеся через доступный им небольшой набор книг определить свои ориентиры в Православии. Они уже почувствовали вкус к молитве и ради неё поселились в горах, чтобы испытать себя в уединении.
Того, кто печатал на машинке (как потом я узнал — молитвенное правило), звали Геннадий. Он привлёк меня спокойным рассудительным характером, и с этим человеком мы за долгие годы дружбы ни разу не поссорились.
Виктор-архитектор, в больших очках, в то время был больше занят своими проблемами: он увлекался постом и постился до того, что поражал всех своей невероятной худобой и вызывал чувство удивления силой воли.
Наши метеорологи оборудовали для жизни две комнаты и даже обжили бетонную комнату, где раньше находился склад. Там они поставили железную печь и две раскладушки, на которые и уложили нас ночевать. Печь быстро прогрела воздух в комнате, и мы уснули счастливыми и радостными от встречи с этими хорошими людьми.
Проснувшись утром, Пётр и я с удивлением заметили, что мы даже не простудились после ужасов прошедшего дня. Но опасность оставалась, как нас предупреждали в один голос наши друзья: если начнётся снегопад, то он может полностью отрезать нашу последнюю возможность спуститься вниз по проложенной нами снежной борозде.
Мы попрощались с заботливыми хозяевами станции, договорившись почаще общаться друг с другом, насколько это будет возможно...»
(продолжение следует)
Современный вид горной гидрометеостанции, на которой в 80-х годах прошлого века трудился Владислав Жердев, будущий епископ Троицкий Панкратий.
[1] Монах Симеон Афонский. Птицы небесные или странствия души в объятиях Бога. Братство «Новая Фиваида». Святая Гора Афон. 2015.

Неусыпаемая Псалтирь – особый род молитвы. Неусыпаемой она называется так потому, что чтение происходит круглосуточно, без перерывов. Так молятся только в монастырях.
Видео 611831
