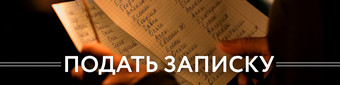


Современный «простой» человек вне зависимости от того, молод он или стар, образован или невежественен, умен или глуп, придерживается ли общепринятых нравственных устоев общества или считает их бесполезной формальностью, слишком не похож на деревенского крестьянина или городского рабочего, живших несколько десятков или сотен лет назад.
Где сейчас живут эти простые люди с цельным восприятием Божьего мира, которые смотрят на ближних, их радости и скорби с добрым сердцем, несомненно принимают истины, содержащиеся в Священном Писании и святоотеческих творениях, и не засоряют свой ум бесконечным потоком душевредной пустой информации? Где эти люди, которые искренне, по-детски веруют в Бога, стремясь жить по совести, как жили их отцы и деды? Такие люди, конечно, есть и сейчас, но их очень мало.
В дореволюционной России деревенские крестьяне и городские мещане с детства знали Господни заповеди и изучали Закон Божий. При этом они в прямом смысле слова «в поте лица ели хлеб свой» (Быт. 3:17). Люди считали своей прямой обязанностью приходить в церковь (в советское время часто ехали или шли в соседнее село, километров за 10-20), где они слушали проповедь такого же, как они, не сильно образованного, но умудренного опытом и бесчисленными скорбями священника. Современный человек редко воспринимает Слово Божие как непреложную истину и руководство к повседневной жизни. Мало кто сегодня живет в нищете и непрестанном, пусть и невольном, аскетическом подвиге – в трудах по огромному хозяйству и воспитанию большого количества детей. Мало кто нынче регулярно тревожит Николу Угодника и Казанскую Божию Матерь, чтобы уродили им побольше хлебушка в этом году, чтобы в семье никто не помер с голоду.
Современные проповедники
Нередко можно услышать, что у современных христиан совершенно нет времени, сил и вообще интеллектуальных способностей, чтобы почитать и понять, например, катехизис святителя Филарета (Дроздова), труды святителей Феофана Затворника и Игнатия (Брянчанинова) или кого-то еще из представителей традиционной богословской мысли. Им многое кажется неясным, чересчур устаревшим или радикально строгим, а, значит, скорее всего, ошибочным.
Как бы то ни было, «к счастью», наши продвинутые богословы Парижской школы все-таки смогли освободить нас от всех этих бед, сделав блестящий тактический ход, а именно, провозгласив непримиримую борьбу с мертвящим юридизмом в догматике, и, что самое главное, вернувшись «назад к отцам!». Эмигранты-богословы всерьез полагали, что они верно переосмыслили и раскрыли всему миру православное святоотеческое вероучение, о котором, по-видимому, не подозревали даже сами святые отцы… Остается только довериться высокому полету их богословской мысли и глубинному духовному пониманию того, о чем же на самом деле писали учители Церкви, чему учит нас Слово Божие, и что было сокрыто от бездуховной синодальщины, а вместе с ней и от всей заблуждающейся Церкви с её святителями и преподобными.
У современного христианина почему-то часто находится достаточно времени и сил, чтобы слушать, смотреть, читать и перечитывать известных проповедников, профессоров и титулованных учителей современного «православия». Напитавши свои души и умы таким «православием», они не могут оставаться простыми, даже если такими когда-то были. А самое прискорбное, что им наверняка кто-то дает благословение знакомиться с таким назидательным чтением.
Конечно, несмотря на серьезные вероучительные заблуждения многочисленных авторов, у них присутствует много вполне православных положений. Однако нужно помнить, что даже капля яда в стакане воды может стать для человека смертельной. Христианину, плохо знающему настоящую православную веру, рассуждения современных богословов могут принести огромный вред. Ведь древние ересиархи учили по большей части православно, и осуждала их Церковь вовсе не за православные мысли, а за догматические заблуждения (ереси), которые могли присутствовать в их учениях в пропорции 1 к 99%.
Но оставим наши отвлечённые рассуждения, а лучше попробуем выяснить, в чем же заключается добродетель простоты в православном святоотеческом понимании.
«Простота есть утвердившийся навык души, которая сделалась чуждою всякого различия и неспособною к лукавству[1]».
«Бог совершенно прост, потому что совершенно духовен, совершенно благ. И твоя душа пусть не двоится на добро и зло».
«Первое свойство детского возраста есть безразличная простота; и доколе Адам имел ее, дотоле не видел наготы души своей, и ничего постыдного в наготе плоти своей. Похвальна и блаженна и та простота, которая бывает в некоторых от природы, но не так, как претворенная из лукавства чрез многие поты и труды; ибо первая покрывает нас от многоразличия и страстей, а вторая бывает причиною высочайшего смиренномудрия и кротости; почему и награда первой не велика, а последней преславна».
«Если разум надмевает многих, то, напротив, невежество и неученость некоторым образом умеренно смиряют. Блаженный Павел, прозванный Препростым, показал нам собою явственный пример, правило и образец блаженной простоты; ибо никто нигде не видал и не слыхал, да и не может никогда увидеть такого преуспеяния в столь краткое время».
Добродетелям «простоты» и «правоты» (или правды) прп. Иоанн противопоставляет лукавство и лицемерие:
«Лукавство есть искусство, или, лучше сказать, безобразие бесовское, которое потеряло истину и думает утаить это от многих. Лицемерие есть противоположное тела с душой устроение, переплетенное всякими вымыслами».
«Правота есть незрительнаямысль[2], искренний нрав, непритворное и неподготовленное слово».
«Нелукавый есть тот, кто находится в естественной чистоте души, как она была сотворена, и который искренно обращается со всеми».
«Кроткая душа – престол простоты, а гневливый ум есть делатель лукавства».
«Души кротких исполнятся разума; а гневливый ум сожитель тьмы и неразумия».
«Лукавый есть лживый провидец, который думает, что он из слов может разуметь мысль других, и по внешним поступкам – сердечное расположение».
«Нелукавый есть тот, кто находится в естественной чистоте души, как она была сотворена, и который искренно обращается со всеми».
«Видал я таких людей, которые прежде были праводушны, а потом у лукавых научились лукавить. Я удивился, как могли они так скоро потерять свое природное свойство и преимущество. Но сколь удобно праводушным людям измениться в лукавых, столь трудно лукавым переродиться в простосердечных».
«Кто на сей степени[3] одержал победу, – да дерзает: ибо он, сделавшись подражателем Христу, обрел спасение».
***
Итак, из поучений святого игумена Синайской горы можно заключить, что:
Простота – это цельное, утвердившееся устроение души, чуждое гордости, лукавства, лицемерия, гнева и прочих страстей.
Человек, стяжавший простоту, не раздирается страстями и противоречиями, не вступает в конфликт с совестью в выборе между добром и злом, волей Божией и волей падшего естества – самостью. Он открыт для восприятия Божественной правды и носит эту правость в своем сердце. Такой простотой обладали первозданные Адам и Ева до тех пор, пока не пали по причине гордости, преслушав заповедь Божию и возжелав «быть как боги», но без Бога (Быт. 3).
Простота бывает природная, как бы сохранённая с детства, потому что малые дети обычно просты, доверчивы и незлобивы. «Простой» человек не замечает зла в других и вообще не мыслит зла, его природная простота «покрывает его от многоразличия[4] и страстей». Природной простоты можно лишиться, «научившись лукавить у лукавых», как этому научились Адам и Ева у сатаны. Праводушным людям легко измениться в лукавых, а лукавым переродиться в простосердечных очень трудно.
Простота бывает и от многотрудного подвига, которая бывает «причиною высочайшего смиренномудрия и кротости», когда она претворяется из лукавства, и эта простота гораздо похвальнее и ценнее простоты природной, которую, повторюсь, легко потерять.
Простота стяжается постепенно, когда человек борется со всевозможными проявлениями падшего человека: лукавством, двоедушием, высокоумием, тщеславием и вообще любыми проявлениями гордости. Бог – прост, это одно из свойств Божественной природы, поэтому и мы должны стремиться в возможной для нас мере уподобиться Творцу в сердечной простоте и правоте, к тому, чтобы простота стала нашим естественным состоянием. Кто не стяжал простоту, тот никогда не достигнет смирения и прочих добродетелей.
Правота (правость сердца, праводушие, справедливость) – устроение преуспевших и бесстрастных, стяжавших трудами и потами простоту и смирение. Оно чуждо всякого лукавства, имеет ум, очищенный от посторонних греховных помыслов, искренний нрав и простое непритворное слово.
***
Описание добродетели простоты у прп. Иоанна можно считать образцовым и рассуждать о том, что пишут о ней другие духовные писатели, следует, исходя из него. Об образцовой простоте неученого и некнижного прп. Павла Препростого и других подвижников — в следующей части.
[1] Славянский перевод: «неподвижною к зломыслию»
[2] Вероятно, имеется в виду состояние, когда ум подвижника становится чистым от помыслов. Исихасты по благодати Божией достигают такой меры безстрастия, что их больше не тревожат греховные помыслы, и вообще никакие случайные помыслы, происходящие от естества, страстей или бесов, но бывают только благие, посылаемые от Бога. Это состояние весьма преуспевших подвижников или совершенных.
[3]Лествица святого Иоанна условно разбита по иерархичности ступеней восхождения к совершенству. Условно потому, что в действительности все добродетели и страсти взаимосвязаны между собой, и поэтому едва ли возможно преуспевать в борьбе с определенными страстями или преуспевать в одних каких-то добродетелях, и при этом совершенно не радеть о других. На каждой из ступеней святой научает читающего, что споспешествует или мешает стяжанию той или иной добродетели или как бороться с главенствующими страстями. Добродетель простоты он воздвиг очень высоко на пути восхождения к святости и бесстрастию – на 24 ступень.
[4]
Многоразличие, возможно, следует понимать, как пытливость, недоверчивость, подозрительность.

Неусыпаемая Псалтирь – особый род молитвы. Неусыпаемой она называется так потому, что чтение происходит круглосуточно, без перерывов. Так молятся только в монастырях.
Видео 540218
