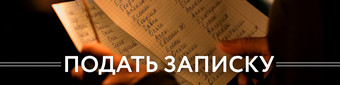Великий Пост можно сравнить с путем – путем к Пасхе. Но пасхальная радость для христианина неотделима от трагедии Креста. Именно это предусмотрела Церковь, вводя в литургическое пространство понятие преполовения или Крестопоклонной Недели.
Великий Пост можно сравнить с путем – путем к Пасхе. Но пасхальная радость для христианина неотделима от трагедии Креста. Именно это предусмотрела Церковь, вводя в литургическое пространство понятие преполовения или Крестопоклонной Недели. Она разделяет Святую Четыредесятницу на две части. Первая из них начиналась чтением покаянного Канона преп. Андрея Критского, воспоминанием о победах православного богословия. Это время очищения и приготовления верных к чему-то самому важному, самому трепетному, что есть в христианстве. Вторая же часть уже прямо вводит нас в литургическое воспоминание (
анамнезис) о Кресте Господнем. На богослужение читается отрывок из Евангелия от Марка:
«И подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись Себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8:34-35).
Великий Пост, прежде всего, есть способ, пусть и относительно нашей немощи несовершенный, исполнения этого Христова призыва. Мы ограничиваем себя, «берем свой крест», и пытаемся следовать нашему Спасителю, жертвовать ради него своим мирским благополучием для приобретения подлинного счастья и радости в Нем. Однако на первый взгляд в евангельском чтении речь идет о нашем человеческом кресте, а не о том, в котором осуществляется спасение мира, т. е. Кресте Божественном. Тем не менее, именно с момента преполовения последний становится центром всего Богослужебного пространства – он выносится в центр храма, после молений ему совершают особые поклонения. В этом кажущемся противоречие в действительности заложен важнейший богословский, сотереологический смысл.
Если присмотреться к этому эпизоду в контексте Евангелия от Марка, то оно занимает здесь совершенно уникальное место. В стихах, предшествующих ему, говорится о исповедании Петра, а прямо за ним следует рассказ о Преображении. Божественность Христа открывается вместе с Его пророчеством о грядущем страдании в Иерусалиме. Что ожидают ученики от Господа? Исполнения обетований Израиля. Пришествия Царства Божия. Но их представления о Нем слишком человеческие. Поэтому, когда Христос говорит о том,
«что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть» (Мф 16:21), это вызывает шок и недоумение:
«И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф. 16:22-23).
Итак, мы видим, что Христос не только открывает Себя ученикам как Богочеловека, но и показывает им, пока достаточно туманно, что главная Его задача на земле будет осуществлена способом, который сам по себе вопиюще отличается от всех людских взглядов на справедливость и могущество Божие. Философски выражаясь, Господь указывает на абсолютную инаковость божественного Промысла по отношению к логике мира. Бог совершенно независим и суверенен в Своей воле, именно поэтому и становится возможным Его Искупительная Жертва.
Поэтому призыв Спасителя в Евангелии от Марка Церковь понимает в его прямой связи с искуплением. Человеческий крест есть ни что иное как образ того Креста, к которому идет Господь. В великопостных богослужениях с воспоминания об этом эпизоде и начинается литургическая реализация пути в Иерусалим.
В самом начале своего обращения к народу и Своим ученикам, Спаситель говорит:«кто хочет идти за Мною», и лишь потом Он добавляет «отвергнись себя».
Крест – безусловно центральная категория христианства. Во времена Реформации на Западе Мартин Лютер попытался противопоставить католическому богословию славы свое собственное богословие Креста. Мы должны, полагал он, рассуждать и размышлять о Боге не как о Величественном Царе Вселенной, а в Его уничижении, силе, которая
«в немощи совершается» (2 Кор. 12:9). Таким образом, он усматривал некое противоречие в воспевание Бога в Его славе и самоумалении.
Однако в Православии эти два богословских момента находятся в поразительном взаимодействии. Это особенно ярко прослеживается на примере синаксарии Крестопоклонного воскресения:
«когда приходит царь, то перед ним сперва появляются его знамена и скипетр, а затем и сам царь идет, радуясь и веселясь о победе, и с ним вместе веселятся и его подчиненные; так же и Господь наш Иисус Христос, который хочет показать свою победу над смертью и явиться во славе дня Воскресения, посылает впереди себя свой скипетр и царское знамя – Животворящий Крест, наполняющий нас радостью и приготовляющий, насколько это нам возможно, встретить Самого Царя и восхвалить Его победу…». Мы видим как здесь объединяются трагичность и радость, страдание и преодоление его.
Отличительной чертой Православия является его глубокая эсхатологичность. Оно не замыкает те или иные библейские события на них самих, а рассматривает в проекции истории спасения. Образ рождественских яслей уже предугадывает и являет Крест, а распятый Господь неотделим от славы и света Воскресения. Именно поэтому древняя Церковь предпочитала не изображать умершего Христа, ибо момент Его смерти настолько сильно связан с победой над ней, что распятие должно обращать наши помыслы именно на этот факт. Здесь моменты жизни и смерти предельно сходятся. Через смерть Бога, проявляется Его абсолютная «воля к жизни», если перефразировать философа.
Крест, таким образом, по-прежнему остается для христианина бесконечным полем для размышления. Мы не должны привыкать к нему, ибо в противном случае потеряем те потрясающие своей глубиной смыслы, которые несет в себе Евангелие.
На Крестопоклонной Неделе, читая слова Христа, мы устремляемся к их предельной перспективе – Его пути в Иерусалим. Как говорит тот же текст Синаксария:
«Но Христос утешает нас, как странствующих по пустыне, до тех пор, когда Он приведет нас к духовному Иерусалиму своим Воскресением, потому что Крест называется и есть Древо Жизни, которое было посажено среди рая…».