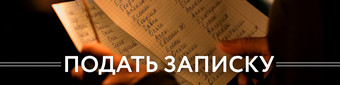У него нашел я самое правильное определение монашества: “Монах — это воздыхающий за весь мир...”
01.12.2016
Трудами братии монастыря
12 049
Николай Тихонович Арламов родился 3 мая 1849 г. в крестьянской семье в деревне Кобылкино Угличского уезда Ярославской губернии. Поступил в Валаамский монастырь 5 июня 1872 г., 3 апреля 1897 г. определен в послушники скончался 1/14 мая 1928 г. и погребен за алтарем храма скита Всех святых в чине послушника.
— Скажите, отец Иаков, почему брат Николай все пятьдесят шесть лет оставался послушником, разве не лучше ему было стать монахом?
— Сокровенной он жизни был...из-за смирения не принимал он монашества: “Монахов-то много, а послушников мало”, — говорил он».
Перед его кончиной одна женщина видела сон, будто пришла она к келье брата Николая, и много народа толпится в сенях, и все ждут чего-то. И вдруг... Ангелы идут, входят в окна кельи, опять идут целыми толпами, и входят, и входят... Было это в ту самую ночь, когда умер брат Николай. Канон на исход души читал ему иеросхимонах Исидор.
О прозорливости послушника знали многие. И как свои монастырские, так и мирские приходили к нему за разрешением разных вопросов и сомнений: «... Разыскал я отца Николая. Смотрю, лежит старец лет семидесяти пяти. Чудное прозрачное белое лицо с небольшой бородкой, с закрытыми глазами. Слеп он, и без одной руки, и без одной ноги. Все растерял за долгую свою жизнь. “Ну, что тужить, Бог дал, Бог и взял. Дивный его, “ангельский” лик, в полном смысле этого слова, как сейчас перед моими глазами. Как будто какой-то художник много десятков лет выписывал тщательно его черты. Слыхал я про него, что пятьдесят лет прожил он в обители сей, не выходя из нее никогда. И остался на всю жизнь послушником, считая себя недостойным принять постриг. Здороваюсь с ним и говорю шутливо: “Ну что же, дедушка, когда схиму-то будешь принимать?” — “Эх, милый, какая там схима, дай-то Бог себя послушником-то оправдать. Мы все о чинах да о званиях мечтаем. Дай нам быть монахом, да иеромонахом, да еще чего. Вот и пошла у нас распря между собою. А монаху-то что нужно, ничего ему не нужно...”
Тогда я задаю ему вопрос, который мучил меня: “А как же, дедушка, вот мы, монахи, уходим от мира, когда там люди так мучаются, так нуждаются в помощи?” — “А ты им возьми, да и помоги!” — слышу я неожиданный ответ. “Да чем мы помочь-то им можем, если они там, а мы здесь?” — недоумеваю я. “Как — чем? Вот они там мучаются, охают да вздыхают, вот и ты помучайся за них, поохай да повздыхай пред Господом Богом, вот им и полегчает”. Такой ответ меня совсем изумил и обрадовал. Так вот где я нашел разрешение этого вековечного сомнения в правильности монашеского пути.
Вот в чем правильный ответ о взаимоотношении монашества с миром. Нет, не бросили монахи мирских людей на произвол судьбы. Они молятся за них и через то облегчают их участь. Кончены мои сомнения, отныне я монах. И у кого же нашел я ответ? У этого убогого старца, считающего себя даже недостойным и называться-то монахом. У него нашел я самое правильное определение монашества:“Монах — это воздыхающий за весь мир...”
5946838